
Русская книжная миниатюра XI-XV вв. (О. С. Попова)
Эта работа написана в 1965 г.* За столь долгий срок многое изменилось в моих взглядах и методе работы. Однако я не имею сейчас возможности написать заново и по-другому этот очерк истории древней русской миниатюры и решаюсь издать его без переделок, в том варианте, который точно соответствует французскому переводу, изданному в 1975 г. Но одно место, несомненно, нуждается в уточнении: рассуждения о миниатюрах Евангелия Хитрово. Сейчас думаю, что все они созданы одним мастером, и с большой долей вероятности можно предполагать, что мастером этим был Андрей Рублев.
* (Настоящая работа вышла в свет на французском языке: О. Popova. Les miniatures russes du XI-e au XV-e siecle. L., 1975. Она получила широкое признание за рубежом, однако советскому читателю осталась, за малым исключением, неизвестна. Учитывая ценность работы, редакция считает полезным включить ее в настоящее издание (Ред.).)
Древнерусская миниатюра давно привлекает внимание исследователей русской художественной культуры и любителей старины. Не раз отмечалось и ее своеобразное художественное очарование, и исключительное значение для изучения истории средневекового искусства. Миниатюры не только дополняют историю нашей древней живописи, уточняют представления о ее школах, этапах развития и особенностях стиля, но иногда освещают такие периоды, от которых не сохранилось ни фресок, ни икон. В настоящее время древнерусская миниатюра пользуется все более пристальным вниманием исследователей, ей посвящено немало специальных работ*. Изучение ее способно не только расширить и обогатить, но, возможно, и изменить ряд наших традиционных суждений о древнерусской живописи.
* (Поскольку работа носит обзорный характер, в библиографии приведены в основном справочные издания. В дальнейшем автор ссылается лишь на некоторые старые работы или труды последнего времени, содержащие наиболее полное указание литературы (Ред.).
Арсений, иеромонах. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры, чч. I-II. М., 1878; ч. III. M., 1879; II. Ф. Б ельников, 10. К. Бегунов, II. П. Рождественский. Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских рукописей. М.-Л., 1963; А. Е. Викторов. Описи рукописных собраний в книгохранилищах северной России. СПб., 1890; А. Х. Востоков. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума. СПб.,1842; А. В. Горский, К. И. Невоструев. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, тт. I-V. М., 1855-1869; Е. Э. Гранстрел. Описание русских и славянских пергаментных рукописей. - "Труды Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина". Л., 1953; Иосиф, иеромонах. Опись рукописей, перенесенных из библиотеки Иосифова монастыря в библиотеку Московской Духовной академии. М., 1882; "Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела библиотеки Академии наук". М.-Л., 1958; д. И. Конюхова. Славяно-русские рукописи XIII-XVII вв. Научной библиотеки им. А. М. Горького МГУ (описание). М., 1964; К. Ф. Калайдович, П. М. Строев. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве, в библиотеке графа Ф. А. Толстого. М., 1825; 1-е прибавление. СПб., 1825; 2-е прибавление. M., 1827. И. М. Кудрявцев, Ю. А. Неволин, Н. Б. Тихомиров и др. Собрание Рогожского кладбища. Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина. - Отдел рукописей; И. К. Куприянов. Обозрение пергаментных рукописей Новгородской софийской библиотеки. СПб., 1857; Леонид, архим. Славянские рукописи, хранящиеся в ризнице Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Издание ОИДР. М., 1881; он же. Сведения о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища св. Троицкой Сергиевой лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 г. (ныне хранящихся в библиотеке Московской духовной академии), вып. 1-2. Издание ОИДР. М., 1887; он же. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова, чч. 1-4. М., 1893-1894; X. М. Лопарев. Описание рукописей Общества любителей древней письменности, тт. I-III. СПб., 1892-1899; В. В. Лукьянов. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областного краеведческого музея. - "Краеведческие записки", вып. III. Ярославль, 1958; 10. А. Олсуфьев, Опись лицевых изображений и орнамента книг ризницы Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1921; А. С. Орлов. Библиотека Московской синодальной типографии, ч. I, вып. 1. М., 1896; Н. II. Петров. Описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии, вып. 1. Киев, 1875; вып. 2. Киев, 1877; вып. 3. Киев, 1879. А. А. Покровский. Древнее псковско-новгородское письменное наследие. Обозрение пергаменных рукописей Типографской и Патриаршей библиотек в связи с вопросом о времени образования этих книгохранилищ. - "Труды XV археологического съезда в Новгороде", т. II. М., 1916. А. Попов. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872; И. Я. Порфирьев, А. В. Вадковский, П. Ф. Красносельцев. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии, чч. I-III. Казань, 1881-1896; Т. Н. Протасьева. Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Новоструева), ч. I. М., 1970; В. И. Срезневский, Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отделения Библиотеки имп. Академии наук, т. I. СПб., 1910; т. II. СПб., 1915; т. III. Л., 1930; П. М. Строев. Библиотека имп. Московского общества истории и древностей российских. М., 1845; П. Б. Тихомиров. Каталог русских и славянских пергаментных рукописей XI-XII вв. (Гос. библиотека CCCF им. В. И. Ленина), ч. I, выи. 25. М., 1962; ч. II, вып. 27. М., 1965; ч. III, вып. 30. М., 1968; Т. В. Ухова. Каталог миниатюр, орнамента и гравюр собраний Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии. - "Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина", выи. 22. М., 1960; В. П. Шумилов. Государственное древлехранилище хартий и рукописей. М., 1971; М. В. Щепки-па, Т. Н. Протасьева. Сокровища древней письменности и старой печати (обзор рукописей русских, славянских, греческих, а также книг старой печати Гос. Исторического музея). М., 1958; М. В. Щепкина, Т. П. Протасьева, Л. М. Костюхина, В. С. Голышенко. Описание пергаментных рукописей Гос. Исторического музея, ч. I. Русские рукописи. - "Археографический ежегодник за 1964 г.". М., 1965, с. 135-234.
Некоторые общие работы (даны в хронологическом порядке): II. В. Волков. Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI-XIV веков. СПб., 1897; В. В. Стасов. Миниатюры некоторых рукописей византийских, болгарских, русских, джагатайских и персидских. СПб., 1904; В. П. Щепкин. Новгородская школа иконописи по данным миниатюры. - "Труды XI археологического съезда в Киеве", т. II, отд. 2. М., 1902, с. 183-208; А. И. Успенский. История древнерусской живописи. М., 1906; П. Симони. К истории обихода книгописца, переплетчика и иконного писца при книжном и иконном строении. - "Материалы для истории книжного дела и иконописи, извлеченные из русских и сербских рукописей и других источников XV-XVIII столетий", выи. 1. СПб., 1906; А. И. Соболевский. Несколько слов о лицевых рукописях. - "Известия Отделения русского языка и словесности имп. АН", т. XIII, кн. 1. СПб., 1908, с. 95-98. Ф. И. Буслаев. Византийская и древнерусская символика по рукописям от XV до XVI века. - Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусств, т. П. СПб., 1910, с. 199-217; "О древнерусской книге" (К выставке "Древнерусская книга" Сергиевского историко-художественного музея). Сергиев, 1921; В. И. Щепкин. Миниатюра в русском искусстве дотатарского периода. - "Slavia", Praga, 1928; А. И. Некрасов. Возникновение московского искусства, т. I. М., 1929. М. Владимиров, Г. Георгиевский. Древнерусские миниатюры. М.-Л., 1933; А. И. Некрасов. Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937; А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944; А. Н. Свирин. Древнерусская миниатюра. М., 1950; 10. Н. Дмитриев. Рецензия на книгу А. Н. Свирина "Древнерусская миниатюра". - "Советская книга", 1951, № 9, с. 108-113; "История русского искусства", под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева, т. I. M., 1953, с. 224-231, 314-316, 326-328, 477-478; т. II. М., 1954, с. 114-115, 134-135, 226-230, 284-296, 367-368, 372-373; т. III, M., 1955, с. 12-13, 18, 28-30, 36-42, 72, 87-94, 536-538; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси. М., 1964; О. И. Подобедова. Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1965; Г. И. Вздорнов. Книгописание и художественное оформление рукописей в московских и подмосковных монастырях до конца первой трети XV в. - "ТОДРЛ", т. XXII. М.-Л., 1966; О. Ворога. Les miniatures russes du XIе an XVе siccle. L., 1975; Г. И. Вздорнов. Искусство книги в древней Руси. Рукописная, книга Северо-Восточной Руси XII - начала XV века. М., 1980.)
Манера письма древних русских миниатюр часто сходна с фреской, реже - с иконой, но почти всегда заметно перенесение стиля живописи больших форм на рукописный лист, сохранение в миниатюре и иконографического типа, и внутреннего образа, и многих стилистических приемов, почти точно перенятых из искусства фрески и иконы. Лишь очень немногие русские лицевые рукописи (например - Псалтирь Спиридония 1397 г. - ГПБ, ОЛДП, F.6) украшены миниатюрами, подлинно иллюстрирующими текст, предназначенными для разъяснения содержания и одновременно для декоративного оформления листа. Эти миниатюры действительно обладают качествами особого искусства, как бы осознающего свой малый размер и не склонного копировать приемы монументальной живописи. Но такие лицевые рукописи в русском искусстве не типичны и представляют собой списки с греческих оригиналов. Основная же часть миниатюристов следует принципам ведущей большой живописи.

Евангелист Лука. Остромирово Евангелие. 1056-1057 гг. ГИБ, F.п. 1.5
Однако же, несмотря на все это, в листах древнерусских рукописей с миниатюрами есть скрытая притягательная сила, более односложная и определенная, но не менее властная, чем в миниатюрах византийских. Последние почти всегда подкупают сложностью живописных приемов, мастерством исполнения, органичной связанностью с текстом рукописи, естественной слитностью со структурой листа. Древнерусская миниатюра часто лишена этих качеств, а если и обладает ими, то все же отнюдь не они составляют основу ее художественного своеобразия. Для большей части древнерусских миниатюр характерна акцентированность чувства, мысли, проповеднический пафос, рассчитанный на массовое восприятие, несоизмеримый не только с малым размером книжной иллюстрации, но и с неизбежно индивидуальным характером чтения. Мастерам древнерусской миниатюры но свойственна забота о живописной норме, о художественной мере, отточенной и урегулированной традицией, о прямом назначении книги, о сопутствующей цели миниатюры - разъяснить текст и украсить лист. Повышенная самостоятельная значимость и духовная наполненность старых русских миниатюр придают им некоторое сходство с восточно-христианской живописью, в том числе и с лицевыми изображениями в восточно-христианских рукописях. Однако, в отличие от утрированной экспрессии и грубоватой упрощенности последних, древнерусские миниатюры облагорожены большой близостью к классическому миру.
Художественные приемы византийских миниатюристов, как правило, адекватны нормам и понятиям, принятым в большой живописи, основным принципам ее стиля. Более того, именно миниатюры всего полнее и ярче отражают вкусы, господствовавшие в некоторые периоды византийской живописи, например в XI или XIII вв. Древнерусские миниатюры не наделены таким качеством. Они импонируют иным - долгим, упорным хранением старых художественных заветов, архаичностью, строгостью и стойкостью основных, хотя часто уже изживавших себя идеалов. Очень долго, в течение всего XIII в. и даже в XIV в, в русской миниатюре удерживаются черты стиля домонгольской живописи, торжественного и иератичного, полного сдержанности и внутренней значительности, словно не желающего считаться с ходом времени.
Привлекательность древнерусской миниатюры - ив разнообразии ее сюжетов, и в большей свободе живописных средств по сравнению с росписями и иконами, и в нередких, хотя порой едва уловимых проявлениях индивидуального склада мастера. Это сочетание архаизма стиля и достаточно свободного в рамках средневековых норм личного художественного метода мастера характерно для старейших русских миниатюр. Оно придает им оригинальность и порождает ощущение специфической художественной и духовной атмосферы, лишенной блистательной, но однообразной византийской торжественности.
Древнерусские миниатюры очень часто похожи по манере исполнения на фреску. Иногда сходны конкретные приемы письма, чаще - направление стиля. Но наибольшая общность миниатюры и фрески - в том проявлении смелости и личной инициативы мастера, которое отличает их от внеличностного культового письма иконы, гораздо более канонизированного, стремящегося к особой гладкости и идеальной отвлеченности. Именно во фреске и миниатюре мы обнаружим нередко либо наиболее полное выражение художественных норм времени, либо, наоборот, свободное отступление от них. Именно здесь наблюдается обостренное ощущение внутреннего состояния персонажей и наиболее смелое выражение живописных средств, предполагающие личное отношение мастера.
Может показаться странным, что мастера пользовались сходными приемами в таких полярных жанрах, как живопись на больших стенных плоскостях и миниатюрное письмо на маленьких листах рукописных книг. Более того, нередко в авторе миниатюр мы угадываем фрескиста и гораздо реже - иконописца. Возможно, корень этой общности кроется в сходной роли настенной живописи и миниатюр, их иллюстративном и оформительском назначении, в их литературности и опосредствованности. Повествовательный характер отличает их от иконы с ее культовым, священным смыслом. Если во фреске и миниатюре - рассказ о действии, то в иконе - проникновение во внутренний смысл действия. Если фреска и миниатюра рассчитаны на поучение, образование, то икона - на соучастие и духовное прозрение. И фреска и миниатюра менее связаны с ритуалом, чем икона. Поэтому художественные нормы последней строже, а живописный идеал ее менее индивидуален, почти внеличен.

Евангелист Лука. Мстиславово Евангелие. Начало XII в. ГИМ, Син., № 1203
Большая, чем в иконе, свобода живописной системы по-разному осуществилась в стенных росписях и на рукописных листах: во фреске - в размахе и открытости технических приемов, в миниатюре - в их стихийности, случайности и бесконечных вариациях, в самом отсутствии в них законченного стилистического строя. Сближало же фреску и миниатюру сходство назначения, которое, видимо, оказывалось важнее разницы масштабов и степени проповеднической и художественной активности.
* * *
Притягательность русских миниатюр домонгольского периода - в оставляемом ими ощущении художественной атмосферы времени, с ее восприимчивостью к византийскому идеалу, смешанной с еще языческой широтой и щедростью. Будучи созданиями высокого искусства, они в то же время еще не утрачивают связи с изделиями прикладных художеств, особенно с эмалями, и являются образцами богатого средневекового ремесла. Лучшие из них оставляют ощущение драгоценных вещей, изысканных и затейливых, подобных многим предметам придворного быта домонгольской Руси*.
* (В. Н. Щепкин. Миниатюра в русском искусстве дотатарского периода. Прага, 1928, с. 742-757; Н. И. Сычев. Искусство средневековой Руси. ("История искусств всех времен и народов", вып. 4) Л., 1929, с. 205-207; В. Н. Лазарев. Живопись и скульптура Киевской Руси. - "История русского искусства", под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева, т. I. M., 1953, с. 224-231; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси. М., 1964, с. 51-60; В. И. Иванова-Мавродинова. За украсата на ръкописите от преславската книжовна школа. - "Преслав", сб. I. София, 1968, с. 80-120; О. И. Подобедова. Русские иллюстрированные рукописи начальной поры в их зарубежных связях. - "Славянские культуры и Балканы", I. София, 1978, с. 206-219, особенно с 217. Там же литература вопроса/)
Старейшие русские пергаменные рукописи интересны не только миниатюрами: каждая деталь их убранства (заставки, инициалы), размеренные пропорции листа, колоннообразные столбцы текста, широкие чистые пергаменные поля, обрамляющие его подобно рамам из слоновой кости, и даже сам медленный, спокойный и ритмичный почерк - все исполнено с подлинным вкусом. Истинное художественное чутье мастеров-оформителей этих древних манускриптов, воспитанное веками, устойчивое и традиционное, передававшееся из поколения в поколение, всегда лежит в основе очарования, исходящего от листов старых русских рукописей. И, наконец, неистощимое богатство представляют собой многочисленные орнаменты, украшающие листы древних пергаменных рукописей. Именно они определяют художественную интонацию книги, оформленной или торжественно и гармонично - в византийском ключе, или нарядно и фантастично, пестро, сбивчиво и узорно, с ковровой прихотливостью - в славянском вкусе*.
* ("Орнаментика русских рукописей XI-XVII вв. (по материалам собрания Отдела рукописей Гос. Исторического музея)". - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", сб. 2. М., 1974, с. 198-239, с. 198-204 - обзор литературы.)
Наряду с заставками и инициалами византийского рисунка, как бы сложенными из эмальерных ячеек и всегда имеющими в основе точную меру и строгую конструкцию, на листах русских рукописей изобилуют композиции асимметричные и причудливые, в которых преобладают "звериные" мотивы, странные сплетения животных, чудовищ, людей и растений, опутанные жгутами, почти всегда являющие собой усилие, порыв, борьбу. Эти сцены забавны, веселы или страшны. Именно этот тератологический орнамент - наиболее интересный вид средневекового узорочья. В нем проявились разнообразные впечатления и представления о мире, которые не могли Выразиться в большом искусстве, сдерживаемом строгостью и абстрактностью византийского художественного идеала. Все то, что в западном романском искусстве воплотилось- в каменной скульптуре и резьбе, что так пышно расцвело позже в готике, превратив и готический собор и готическую рукопись в целый мир впечатлений и ассоциаций, все многообразие реальных и фантастических, прекрасных и гротескных сторон мироздания - все это в восточно-христианском искусстве в какой-то мере отразилось на листах рукописных книг, в широко распространенном типе тератологического орнамента. И если в отвлеченно-идеальном православном искусстве средневековья и проявились впечатления о жизненных связях и законах, то, быть может, особенно сильны они именно здесь, в тератологических композициях - в этих странных порождениях человеческой фантазии, цепких, гибких, жутких и шутовских*.
* (В. В. Стасов. Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени. СПб., 1884; А. С. Гущин. Древнерусский звериный орнамент (тезисы диссертации). Л., 1918; А. И: Некрасов. Очерки по истории славянского орнамента. СПб., 1919; A. Grabar. Recherches sur influences orientales dans Tart Balkanique. Paris, 1928; I. Strzygowski. Die Altslavische Kunst,ein Versuch ihres Nachweises. Augsburg, 1929; W. Born. Das Tiergeflecht in der Nordrussischen Buchmalerei. - "Seminarium Kondakovianum", т. V. Praha, 1932; с 63-98; т. VI, 1933, с. 48-108; т. VII, 1934, с. 76 и сл.: А . С. Гущин. Памятники художественного ремесла древней Руси X-XIII вв. Л., 1936; Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948; V. Molin. Ornament juznoslovenskih rukopisa XI-XIII veka. - "Radovi паи'nog drustva sv. R. Bosne i Hercegovine", kraj VII. Odeljenje istorijsko-filolobkih nauka, kn. 3. Saraevo, 1957; с 5-79; A, Tuulse. Skandi-nawia romaniska. Warszawa, 1970, c. 244-245; В. А. Рыбаков. Русское прикладное искусство X-XIII вв., Л., 1971, с. 10-16; И. П. Шаскольский. Норманская теория в современной буржуазной науке. М.-Л., 1965, с. 99-100; В. Н. Лазарев. Искусство средневековой Руси и Запад (XI-XV вв.). - В. Н. Лазарев. Византийское и древнерусское искусство. М., 1978, с. 227-296 (особенно с. 274-276).)

Евангелисты Марк и Лука. Спасское Евангелие. Первая половина XIII в. Ярославский музей, № 15690
* * *
Истоки всего древнерусского искусства - в Киевской Руси XI в. И как бы ни усложнялись, ни обогащались или, наоборот, ни дробились впоследствии художественные идеалы киевской эпохи, как бы ни локализовались в XII-XIV вв. местные художественные школы и живописные стили, все же чрезвычайно долго, в течение нескольких веков в русском искусстве живут самые важные понятия, традиции, выработанные еще в древнем Киеве. Главное же - в русской живописи в течение лучших периодов ее развития сохраняется определенное, изменяющееся со временем больше качественно, чем количественно, соотношение русского и византийского начала, обозначившееся уже в искусстве киевской эпохи. Уточняется возможная для русской живописи мера ориентации на Византию, мера поглощения русской культурой родственного, но чужеземного начала. Именно в искусстве Киевской Руси уже выявляются специфические русские представления об образе и мастерстве и соответственно отступления от греческой художественной системы. Византийскому образу придается большая острота и внушительность, а византийскому живописному языку - большая простота и осязаемость, лишающие его некоторой тонкости, но вместе с тем сообщающие ему непререкаемую убедительную силу. Такое соотношение акцентов удерживается в русском искусстве долго, в течение нескольких столетий, вплоть до XV в., т. е. на протяжении всех периодов, когда оно находилось в кругу художественных идей, общих для всего византийского мира. Определенное изменение византийского начала, "укрупнение" образа вместе с упрощением письма очевидно уже в искусстве Киевской Руси и особенно в миниатюрах киевской эпохи, поскольку значительная часть мозаик и фресок Киева выполнена греческими мастерами, а миниатюры дошедших до нас лицевых рукописей киевской школы (кроме, быть может, Кодекса Гертруды) созданы, несомненно, русскими художниками.
Миниатюрам этого раннего периода свойственны специфические черты, характерные именно для искусства Киевской Руси с ее широтой вкусов, незамкнутостью художественной атмосферы, лишенной догматизма, с разнообразием непосредственных контактов как с византийским, так и с западным миром, и главное, в них ощущается грандиозность, соединенная с известной наивностью, великолепие замысла вместе с первичным освоением основ христианского искусства, начальность культуры рядом с очевидностью ее богатства и размаха.
От времени древнего Киева до нас дошли три лицевые рукописи: Остромирово евангелие, 1056-1057 гг. (ГПБ, F.п. 1.5)*, Изборник Святослава 1073 г. (ГИМ, Син. 31)** и Кодекс Гертруды***, славянская часть которого возникла между 1078 и 1087 гг. (Кодекс Гертруды, иначе - Псалтирь Эгберта хранится в Чивидале). Все три - драгоценные именные книги, непосредственно или косвенно связанные с княжеским домом, украшенные с исключительной, даже по средневековым понятиям, роскошью. Все три созданы при Ярославичах, сыновьях Ярослава Мудрого: Остромирово евангелие и Кодекс Гертруды - при Изяславе, Изборник - в начале княжения Святослава.
* ("Остромирово евангелие 1056-57 г. с приложением греческого текста евангелий с грамматическими объяснениями", изд. А. Востоковым. СПб., 1843; "Остромирово евангелие 1056-57 г., хранящееся в имп. Публичной библиотеке", иждивением петербургского купца Ильи Савиннова. СПб., 1883 (изд. 2, СПб., 1889); В. Н. Лазарев. Живопись и скульптура Киевской Руси, с. 226; В. В. Стасов. О миниатюрах Остромирова евангелия. - В. В. Стасов. Собр. соч., т. П. СПб., 1894, с. 127 - 135; II. Н. Розов. Остромирово евангелие в Публичной библиотеке (150 лет хранения и изучения). - "Труды Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина", № 5(8). Л., 1956, с. 9 - 32; А. Н. Свирин. Остромирово евангелие как памятник искусства. - Там же, с. 47-55; И. Michaelis. "Dictament Dei". - "Forschungen und Fortschrifte", 32. Berlin, 1958, S. 309-311; Э. С. Смирнова. Древнейший памятник русского книжного искусства. - "Искусство книги", 2. М., 1961, с. 213-222; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси XI-XVII вв., с. 53-56. В. Н. Лазарев. Искусство средневековой Руси и Запада, с. 268. О. И. Подобедова. Русские иллюстрированные рукописи начальной поры в их зарубежных связях, с. 214-219.)
** ("Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года". СПб., 1880; Н. П. Кондаков. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. СПб., 1906. Д. В. Айналов. К истории древнерусской литературы. Эпизод сношений Киева с Западной Европой. - "Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР", т. III. М.-Л, 1936, с. 9-10; В. Н. Лазарев. Живопись Киевской Руси, с. 228; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси, с. 62-63; В. И. Иванова-Мавродинова. Указ. соч., с. 84-98; О. И. Подобедова. Изборник Святослава как тип книги. - "Изборник Святослава 1073 г." М., 1977 (там же литература вопроса).)
*** (А. А. Бобринский. Киевские миниатюры XI в. и портрет князя Ярополка Изяславича в псалтири Экберта, архиепископа Трирского. - "Записки имп. Русского археологического общества", т. XII, вып. 1-2. СПб., 1901, с. 351-371; Н. Sauerland, A. Haseloff. Der Psalter Egberts von Trier in Cividale. Trier, 1901; С. И. Северьянов. Codex Gertrudianus. - "Сборник Отделения русского языка и словесности Российской АН", 99, № 4. Пг., 1922, с. 1-40; G. Marioni, С. Mutinelli. Guida storica - artistica di Cividale Udine, 1958, p. 424; B. II. Лазарев. Искусство средневековой Руси и Запад, с. 268-269 (там же литература).)
Самая ранняя из них - Остромирово евангелие - была написана дьяконом Григорием в 1056-1057 гг., судя по всему, в Киеве, для новгородского посадника Остромира, родственника великого князя киевского Изяслава. Рукопись украшена тремя миниатюрами, исполненными двумя различными мастерами. Одному из них принадлежит лист с изображением евангелиста Иоанна с учеником его Прохором, другому - изображения евангелистов Луки и Марка. Различна не только индивидуальная манера работы этих мастеров, но даже истоки их стиля, сам подход их к живописи. Первый мастер понимает миниатюру как высокое самостоятельное искусство, обладающее сложными и традиционными приемами, второй, напротив, уподобляет ее прикладному художеству, предмету дорогой утвари. Однако в оформлении ими рукописных листов есть не только немало близкого, но и такое сходство в понимании смысла книжной декорации, которое может быть рождено только единством духовной среды и единством художественной атмосферы. У обоих одинаково развито чутье к безграничным декоративным возможностям книжной иллюстрации. У обоих одинаковое тяготение к пышной узорности, привязанность к тяжелым, весомым, похожим на ювелирные драгоценности византийским орнаментам, стремление тесно окружить ими миниатюры, уподобить лист великолепному дворцовому изделию, где само изображение евангелиста воспринимается прежде всего как часть ювелирного эмалевого украшения со сложным ковровым рисунком.

Прохор. Деталь миниатюры Остромирова евангелия. 1056-1057 гг. ГПБ. (Увеличено)

Евангелист Матфей. Деталь миниатюры Спасского евангелия. Первая половина XIII в. Ярославский музей. (Увеличено.)

Иоанн Златоуст. Служебник Варлаама Хутынского. Конец XII - начало XIII в. ГИМ, Син., № 604
Наибольшей живописной сложностью выделяется первая миниатюра - "Евангелист Иоанн с Прохором". Сама композиция, обилие в ней золота и густых сверкающих красок, обрамляющая ее гибкая, украшенная византийскими орнаментами рама в виде квадрифолия, изображение мозаичного пола, заставляющее вспомнить о драгоценных инкрустированных полах константинопольского императорского дворца, наконец, прекрасно выписанная, пластичная фигура льва вверху - все напоминает богатые византийские миниатюры с их изысканностью, сложностью плетения и помпезностью. К стилю комниновской миниатюры тяготеет также письмо одежд евангелиста и его ученика, грамотное, по-византийски точное и классически завершенное. Особенно сильно чистота византийской традиции ощущается в изображении одежд Иоанна, его зеленого платья и серебристо-голубого с зеленоватыми отсветами плаща. Она чувствуется в широких, резких пробелах, напоминающих высветления, которыми подчеркиваются формы во фресках, в деликатных цветных тенях, передающих затененную глубину складок, в решении цветового строя, интенсивно сгущенного, но мягкого, лишенного назойливой контрастности, основанного на сочетании согласованных, легко смыкающихся тонов, наполненного подобными рефлексам цветовыми отблесками (вишневые блики по контурам складок). Она ощущается и в чисто византийской, большой и точной определенности всей художественной формы.
Иные художественные ассоциации вызывает исполнение лица Прохора на этой миниатюре (лик Иоанна значительно утрачен). Во внешнем облике его подчеркнут восточный тип. В самой живописной манере, резкой и грузной, - стремление к массивности формы, к жесткому подчеркнутому рисунку, к яркой цветности и красочной контрастности. Во всем - желание сообщить образу как можно большую весомость, духовную значительность, выделить и усилить лишь главное в его внутреннем строе. Во всем - отказ от внешней сдержанности и художественной соразмерности византийских образов, от постепенности и согласованности их письма. Это яркое, тяжелое, малорасчлененное письмо сходно не с собственно Византийской традицией, а скорее, с восточно-христианской или романской. Образцов киевской монументальной живописи подобного типа не сохранилось. Мозаики и фрески древнего Киева свидетельствуют о перенесении на русскую почву византийской и, быть может, южнославянской культуры. Тем более интересно указание миниатюр на совсем иные художественные связи, вероятно, существовавшие у киевских мастеров.
Миниатюра первого мастера - "Евангелист Иоанн с Прохором" - входит в историю древнерусской живописи на равных правах с другими ее созданиями и уточняет представление о сложных путях ее художественных контактов*.
* (О. С. Попова. К вопросу о связях древнерусского, византийского и романского искусства XI - начала XII вв. - "II Международный симпозиум по грузинскому искусству". Тбилиси, 1977.)
В двух других миниатюрах - "Евангелист Лука" (см. илл.) и "Евангелист Марк", работах второго мастера, - перенесены на рукописный лист приемы искусства эмали, широко распространенного в Киеве. Глубокая живописная фактура заменяется плоским цветом, похожим на эмалевую пасту. Естественный контур превращается в тонкий и ровный золотой рисунок. Золотые, похожие на перегородочки эмали линии, обрисовывающие черты лица и волосы, кладутся на покрытую коричневато-розовым "тельным" цветом поверхность головы, рук, шеи, как чистый рисунок золотом на переливающуюся эмалевую массу. Сеть тонких золотых линий, расчерчивающая одежды евангелистов, уничтожает какую-либо самостоятельность самой живописи, скрытой под ее покровом. В миниатюре с Лукой еще существует, однако, живописное письмо одежд, подлинное, пластическое, с тенями, со сгущениями краски, темно-зеленой на платье, темно-вишневой, глубокой, почти черной на плаще. И все же эта живопись несамостоятельна и пассивна. Она исчезает, не может и не должна быть видна под плоским роскошным золотым покровом. Она служит лишь для создания красочного мерцания под золотой сетью и уподобляется великолепной, декоративной, но неживой и односложной эмалевой пасте.

Евангелист Лука. Галицко-волынское Евангелие. Начало XIII в. ГТГ, № К-5348
В миниатюре с изображением Марка уже совсем нет живописной передачи форм одежды. Мастер откровенно раскрашивает платье и плащ голубой и коричневой краской и расчленяет эти совсем ровные цветовые плоскости, подобно эмалевым ячейкам, золотыми линиями-перегородками. Миниатюра утрачивает связь с большой живописью, рассматривается как прикладное изделие, как украшение, равное драгоценной, но все же бытовой вещи.
Рукопись исключительно дорогая, созданная но индивидуальному высокому заказу, Остромирово евангелие, несомненно, было ориентиром для подражаний в определенной, вероятно, княжеской среде. Такова рукопись, возникшая под впечатлением от него, - Мстиславово евангелие (ГИМ, Син. 1203)*, созданное примерно на полвека позже, в начале XII в., возможно, между 1103-1117 гг., поповичем Алексою Лазаревичем. Место написания рукописи проблематично - Киев или Новгород. Заказчик ее - новгородский князь Мстислав. Свое декоративное убранство рукопись, несомненно, получила в Новгороде, о чем ярко свидетельствует манера письма ее миниатюр. Облик рукописи в целом, парадной книги из роскошного княжеского быта, поражает великолепием, пышностью и высоким мастерством. Миниатюры Мстиславовн евангелия (изображения евангелистов, см. илл.) композиционно почти точно воспроизводят свои прототипы, сохраняя и богатство их декоративного оформления, и типы византийских орнаментов, и оригинальные изогнутые рамы - квадрифолии, и узоры мозаичных полов, и рисунок архитектурных фонов.
* (П. Симони. Мстиславово евангелие. СПб., 1904; А. Н. Свирин. Древнерусская миниатюра, с. 31-32; он же. Искусство книги древней Руси, с. 62-63; О. С. Попова. К вопросу о связях...)

Евангелист Матфей. Симоновское Евангелие (иначе - Евангелие Георгия Лотыша). 1270 г. ГБЛ, Рум., № 105
Несомненное знакомство с византийской традицией, почерпнутое мастером-новгородцем из киевской рукописи, ощущается в сложном письме одежд Иоанна, пластическом, пропорциональном, чисто живописном. Из Остромирова евангелия перенял он и приемы, восходящие к киевскому эмальерному искусству. Однако в киевских миниатюрах они составляют основу всего художественного строя. В новгородских же миниатюрах - лишь угадываются в отдельных приемах: в искусственно-розовом, "телесном" нижнем слое письма лиц (Иоанн), ровном и застылом, как эмалевая масса, в однообразной, лишенной пластичности, столь же розовой "драгоценной" раскраске кистей рук. Эти отголоски киевского мастерства проглядываются в миниатюрах Мстиславова евангелия сквозь принципиально иную, некиевскую художественную систему, уже несущую в себе основные признаки новгородского стиля.
Резко изменился внутренний смысл образа. Декоративное, украшательское назначение миниатюр отодвигается на второй план в работах новгородского мастера, сосредоточивающегося на духовной сути изображения. Внутренняя индифферентность образов Остромирова евангелия в Мстиславовом евангелии сменяется напряженным духовным акцентом. Миниатюры новгородской работы не носят характера иллюстративного, прикладного жанра, они приобретают самоценность, возвышаются до большого искусства. Им свойственны черты, общие для ранней новгородской живописи: резкость внешнего аспекта и обостренность внутреннего, отсутствие какой-либо постепенности в раскрытии образа, внезапность его подачи "в упор", преувеличенная, чуть огрубелая мощь, давление на зрителя, исключающее малейший оттенок собеседования и соучастия. Подобная выразительность художественных приемов в большой мере свойственна восточнохристианскому искусству. Мастер миниатюр Мстиславова евангелия, воспользовавшись киевскими образцами, переосмыслил их в духе совсем иного мироощущения, новгородского, отдаленно родственного христианскому искусству Востока. Наибольшую же конкретную близость его миниатюры обнаруживают к тем фрескам первой половины XII в., в которых очевидны черты местного художественного стиля, полно проявившегося только во второй половине столетия, - к фрагменту с изображением князя и воинов (?) из Софии Новгородской и отчасти к фрескам Георгиевского собора Юрьева монастыря, хотя в последних элементы выразительного, экспрессивно грубоватого новгородского живописного языка еще не нарушают классической уравновешенности византийского образа.
Новгородские художественные вкусы и навыки мастеров очевидны в манере письма этих миниатюр. В самом уподоблении миниатюры фреске, в монументальном некнижном размахе ее - ощущение новгородской живописной стихии. Нигде, ни в одной другой художественной школе древней Руси приемы настенной живописи не переносились на рукописный лист столь смело, наивно и буквально, как в Новгороде.
Мастер миниатюр по-новгородски упрощает художественные приемы, сообщает им возможную экспрессию и одновременно возможную наглядность. Образы его внушительны, язык же - доступен, почти прост. Как и во всей ранней новгородской живописи, в его искусстве есть стихийность, экзальтированность и вместе с тем доступность, которые чрезвычайно далеко отстоят от интеллектуализма византийской художественной системы и роднят его с низовым демократическим искусством христианского Востока, надолго сохранившим мироощущение первохристианской общины.
Как истинный новгородец, мастер миниатюр любит письмо весомое, плотное, решительное. Определяющее в его манере - не гармония, а контрастность. Он укрупняет формы, сообщает им резкую, тяжелую пластичность. Он использует белильные движки в лепке ликов, кладет их как бы внезапно, точно, уверенно, как делали новгородские фрескисты. Иногда он смело заменяет золотую "эмальерную" штриховку крупными, энергичными пробелами, чрезмерно широкими и могучими для миниатюры, структурностью своей явно похожими на фреску. Если же он и сохраняет членение формы золотыми линиями, то уподобляет их скорее мощному ассисту иконы, чем тонким золотым перегородочкам эмали, заметным лишь при внимательном рассматривании. Он придает повышенное значение рисунку, делает его скупым и напряженным, призванным не просто отчеканивать форму, а выразительностью своей определять весь художественный строй изображения. В работе его уже очевиден специфически новгородский художественный прием, надолго удержавшийся в местной живописи, - пристрастие к рисунку с раскраской, к усиленной его выразительности, к яркому, чисто декоративному цветовому строю, близкому плоскостной раскраске. В письме лиц мастер нередко использует типично новгородскую охру, чередуя ее с красной подрумянкой и глубокими зелеными тенями. В колористической гамме его ощутимо новгородское понятие цвета - и по отбору тонов, и по способу сочетания их, прямолинейному, без заботы о согласии. Цвета, открытые и броские, лежат рядом отчетливо и обособленно, не составляя какой-либо сплавленности. Такая художественная система лишена сложности и умудренности, но подкупает откровенностью, наивностью, красочной щедростью. Позднее, в XIII в., принцип этот определит собой новгородскую живопись. В Мстиславовом евангелии он сочетается с киевской традицией "эмальерного" цвета.
Кроме украшенных миниатюрами дорогих княжеских манускриптов, от ранней домонгольской Руси сохранились лицевые рукописи, вышедшие, видимо, из совсем иной, более простой среды. Самая ранняя среди таких миниатюр - лист с изображением евангелиста Иоанна с апостолом Павлом, восходящий к XI в., некогда очень большой, а затем сильно обрезанный и вклеенный в новгородскую рукопись - Милятино евангелие, созданное попом Домкой по заказу Миляты Лукинича в "голодное лето" 1188 или 1215 г. (ГПБ, F. п. 1.7)*. В этой миниатюре еще очевиднее, чем в изображениях Мстиславова евангелия, связь с восточнохристианской живописью, внутреннее сходство с ней и внешнее следование ее приемам. Миниатюра Милятина евангелия (или Евангелия Домки) противоположна иллюстрациям Мстиславова евангелия и по происхождению своему, и по качеству, и по осмыслению художественных традиций. Она бедна, груба, почти не имеет черт того особого новгородского художественного языка, который надолго удерживается в местной школе и уже столь очевиден в миниатюрах Мстиславова евангелия. Она обнаруживает сильнейшее тяготение к восточно-христианскому искусству, почти полное, буквальное повторение его художественного идеала.
* (Г. И. Вздорнов. Миниатюра из Евангелия попа Домки и черты восточнохристианского искусства в новгородской живописи XI-XII веков. - "Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода". М., 1968, с. 201-222.)
Живописные средства этой миниатюры минимальны, духовная насыщенность ее максимальна. Миниатюра очень плохой сохранности, и все же она внушительна и впечатляюща. Недостающее в ней без труда домысливается, так как приемы ее живописи незамысловаты и нерасчленены. Рисунок резко обозначен: не только не скрыт живописной тканью, а подчеркнут и самодовлеющ. Он выявлен настолько откровенно, что почти близок прориси, но в отличие от ее стандартной повторяемости обладает индивидуальной характерностью. Он резко и напряженно определяет черты лица и силуэты, выявляя основной смысл образа.
Краски, которыми пользуется мастер, - плотные, глухие, замутненные. Но, кажется, что это его не заботит, он и не стремится к какой-либо красоте, отточенности, декоративному эффекту. Главное для него - выразительное, а не изобразительное. В его письме нет и следа византийской техничности. Он пишет быстро и темпераментно, торопится донести главное, захватывающее его чувство. Любые самые примитивные средства для этого одинаково пригодны. В образах его нет ничего соразмерного с обычным, все исполнено повышенной смысловой значимости. В самой сути его искусства есть ощущение восточной соборности, стихийной и массовой. Мастер пишет широко, накладывая краски крупными пластами. Серебристо-серый плащ Иоанна столь решительно и экспансивно прописан зелеными и серыми вихрящимися росчерками, имитирующими пробела, что невозможно понять, какие красочные слои обозначают ткань, какие - свет. Это стихийное сплетение красок создает ощущение размашистой несдержанной живописности, не укладывающейся ни в какие нормы и правила. Обхождение мастера с краской - совсем иное, чем в других новгородских миниатюрах. Он подчеркивает не декоративные, а пластические возможности цвета. Он кладет краску длинными, текучими слоями, охватывая ими форму, наполняя ее. В этом незамысловатом письме пластическая мощь и примитивная живописность сочетаются с полной условностью. Мышление мастера живописно-чувственно, но обращено к отвлеченным понятиям. Речь его - негладкая, но властная. Восток долго хранил эти первоначальные представления христианства, обобщенные и вместе с тем осязательные. Рожденное ими искусство обладало непритязательными, но утрированно выразительными формами. Новгородское искусство было единственным среди местных русских художественных школ, использовавшим эти традиции.
К числу ранних русских рукописей с миниатюрами неискушенного письма принадлежит также Добрилово евангелие 1164 г. (ГБЛ, Рум. 103)*, созданное в Галицко-Волынской Руси дьяком церкви св. Апостолов Константином, в миру Добрилой. Простоватые, примитивно живописные миниатюры с изображениями евангелистов, рассчитанные на невзыскательные вкусы, несут в себе, однако, особую прелесть сочного, свободного письма мастера, в провинциальном простодушии своем не ведающего ни о высокой профессиональной выучке, ни о строгости смыслового и художественного канонов, ни о значительности духовного содержания образа. Очарование их - в непосредственности и свежести художественного чувства.
* (Н. Н. Воронин, В. Н. Лазарев. Искусство западнорусских княжеств. - "История русского искусства", т. I. M., 1953, с. 314-316.)
Оба типа рукописей - драгоценной и более скромной - существовали в древней Руси параллельно. Каждый из них преобладал в зависимости от условий и уровня культуры эпохи. Лицевые рукописи домонгольского периода, вплоть до первой трети XIII в. включительно, как правило, богато и изысканно иллюстрированы. Миниатюры их по внутренней своей сути, качеству письма и стилистическим приемам стоят на уровне современных им художественных достижений. Общий тип такой рукописи - и выделка ее пергамена, и тщательность письма самого текста и роскошь всего ее живописного убранства - восходит к киевским традициям придворной заказной или подносной книги. Традиция эта была жива в течение трех столетий - с XI по XIII в. Прервана она была монгольским нашествием, и в XIV в. почти до конца его напоминала о себе редко. Еще раз мы встречаемся с ней в раннем XIII в. в Северо-Восточной Руси в рукописях из библиотеки епископа ростовского Кирилла*. По свидетельству летописи, это была большая библиотека. Большинство сохранившихся от нее рукописей имеет похожий внешний облик, сходство почерков, единство орнаментации и близость письма миниатюр. Видимо, они создавались на месте, в Ростове, в одной мастерской, или просто одними писцами и художниками. Рукописи эти - Апостол 1220 г. (ГИМ, Син. 7), Житие Нифонта 1219 г. (только орнамент, без миниатюр; ГБЛ, Троиц. 35), Евангелие из библиотеки МГУ (Ag 80), Евангелие из Спасо-Преображенского собора в Ярославле (Спасское евангелие, Ярославский музей, № 15690), Кондакарь из Троице-Сергиевой лавры (ГБЛ, Тр. 23). Те из них, которые не имеют записи с точной датой, исполнены, по палеографическим данным, приблизительно в то же время, в пределах первой трети (или первой половины) XIII в.
* (С. О. Долгов. Описание евангелия XIII века, принадлежащего ярославскому архиерейскому дому. - "Труды VII археологического съезда в Ярославле", т. III. Ярославль, 1882, с. 52-57; А. И. Соболевский. Остатки библиотеки XIII века. - "Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии". СПб., 1910, с. 205-207; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси, с. 67-68; Г. И. Вздорнов. Малоизвестные лицевые рукописи Владимиро-Суздальской Руси XII-XIII вв. - "Советская археология", 1965, № 4, с. 168-185; Г. И. Вздорнов. Искусство книги в древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII - начала XV веков, с. 22-32.)
К этой же группе примыкают миниатюры с изображением болгарского царя Бориса- Михаила в Евангелии учительном Константина Болгарского, вторая половина XII в. (ГИМ, Син. 262) и в "Слове об Антихристе" Ипполита, папы Римского конец XII в. (ГИМ, Чуд. 12)*. Эти рукописи, возникшие на несколько десятилетий раньше, чем вся группа ростовских рукописей, возможно, созданы в другой мастерской и даже, быть может, не обязательно в Ростове. Но несомненна принадлежность их миниатюр художественной традиции Северо-Восточной Руси и большое сходство их стилистического строя с ростовскими миниатюрами.
* (А. В. Михайлов. К вопросу об Учительном евангелии Константина, епископа Болгарского. - "Древности. Труды Славянской комиссии ими. Московского археологического общества", т. I. М., 1895; В. С. Голышенко. К вопросу об изображении князя в Чудовской рукописи XII-XIII веков. - "Проблемы источниковедения", вып. 7. М., 1959, с. 391-415.)
Крупные по размеру, красочные, нарядные, иногда со сложными архитектурными фонами, миниатюры рукописей из библиотеки Кирилла Ростовского оставляют впечатление дорогого художества, корнями своими восходящего к старым киевским традициям. Но это ощущение связано только с общим импозантным характером рукописей. Конкретный же художественный облик и внутренний смысл изображений - иной. Ростовские миниатюры XIII в. - это образцы развитой культуры, пришедшей к сложности содержания и выражения. Внушительность обликов, острота взглядов сочетаются здесь с мягкостью и спокойствием живописных приемов. Эти миниатюры представляют собой как бы сплав художественных исканий, существовавших в то время на Руси. В них есть преувеличенная акцентированность духовного - черта, свойственная русской домонгольской живописи второй половины XII - раннего XIII в. и общая для позднекомниновской живописи византийских периферий. Вместе с тем эти миниатюры полны особой просветленности и праздничности. Все формы в них удлиненные, изящные, благородные. Контуры, силуэты - ясные, естественные, спокойные. Краски одежд - светлые, неназойливые, нарядные: преобладают голубой, жемчужно-серый, вишневый цвета. Все одежды пронизаны легкими белыми, почти прозрачными линиями, заменяющими тяжелые, крупные пробела. Эти светоносные, нематериальные лучи-нити сообщают тканям невесомость, фигурам - бесплотность и парение, а всей композиции - одухотворенную изысканность. Такое тихое, внутреннее свечение живописи, ее сдержанная мягкость, отсутствие в ней напряженного и трагического начала - все это не только особенности ростовской школы, но и живописные традиции всей Северо-Восточной Руси (включая и Владимир, и Суздаль, и Ростов). Это те черты, которые позже возобладали в живописи Москвы XIV в. и на основе которых сложился стиль Андрея Рублева. В приемах этой живописи заметно много общего с комниновским столичным искусством. Видимо, эта высокая константинопольская традиция была рано занесена в Северо-Восточную Русь (вспомним, например, икону "Владимирской Богоматери" или фрески Дмитриевского собора во Владимире) и способствовала сложению того особого, полного лиризма стиля, который мы считаем ростово-суздальским, а точнее - стилем живописи Северо-Восточной Руси. Но, при всей ясности восхождения этого стиля к столичной живописи комниновской Византии, он имеет и некоторый специфический невизантийский оттенок, позволяющий говорить о существенном переосмыслении его на русской почве. Он лишен идеальной, отвлеченной византийской меры. Акцентированность духовного строя образа, выражающаяся либо в большей резкости, либо в большей смягченности его по сравнению с образами византийской живописи, сочетается в нем с упрощением внешних черт византийской манеры письма, с отказом от ее сложной технологии, обязательной многослойности, от ее расчлененности и постепенности.
В миниатюрах Евангелия из ярославского Спасо-Преображенского собора, (см. илл.), особенно в письме лиц евангелистов, обрусение стиля очевидно. Снова главное в нем - рисунок, выразительный и крайне простой. Сама живописная ткань (в лицах) не обладает ни прозрачностью, ни сплавленностью. Краски ее - тяжелые и открытые. Нижний слой мастер прописывает охрой, яркой, активной, имеющей резкий рыжий оттенок. Сверху он накладывает столь же яркие румяна и столь же тяжелые белильные света, стелющиеся не обычными мелкими движками, а круглыми массивными пятнами, плотными и контрастными. В письме лиц нет подчеркнутой стилизации, но нет и поисков гармонии. Все резко, строго и внушительно по формам, красочно и односложно-декоративно по цвету, определенно и однозначно по смыслу. Открытость письма, его полная обозримость, обрисованность и раскрашенность - своеобразные черты русской школы, которые вскоре, во второй половине XIII в., возобладают в ней, а здесь, в ростовских домонгольских миниатюрах, сосуществуют с иным стилистическим началом, утонченным и одухотворенным, свойственным в большей или меньшей мере всей русской северо-восточной живописи и в конечном счете восходящим к искусству комниновской Византии.
Но всего сильнее византийская традиция ощутима в другой художественной школе домонгольской Руси - Галицко-Волынской, от живописи которой с достоверностью сохранились только миниатюры. Наиболее интересные из них относятся к тому же периоду раннего XIII в. Это и листы с изображением Иоанна Златоуста (см. илл.) и Василия Великого в Служебнике Варлаама Хутынского конца XII - начала XIII в. (ГИМ, Син. 604) и четыре миниатюры с изображениями евангелистов в Евангелии первой четверти XIII в. (ГТГ, К-53481). Первые из них и обликом своим, и всем характером своего письма настолько близки определенной группе византийских комниновских образцов, что их почти можно было бы принять за чисто греческие. Стилистический строй этих миниатюр принадлежит к одному из лучших вариантов комниновской живописи типа греческих икон "Св. Григорий Чудотворец" из Гос. Эрмитажа или "Св. Евфимий" с Синая. Письмо этих миниатюр - ровное, четкое, традиционное, отличающееся совершенной отточенностью. Ему свойственны чеканность и строгость контуров, приглушенность общего тона, гармония неярких оттенков, тихое внутреннее свечение красок. Вся живописная сфера столь продумана, что сама художественная оболочка образа кажется неназойливой, как бы едва заметной. Полное внешнее спокойствие образа сочетается с его высокой внутренней сосредоточенностью. Особый тип одухотворенного умного лица, с проницательным взглядом, с выражением скрытого душевного страдания, как у Иоанна Златоуста в этой миниатюре, создан столичным византийским искусством XII в. и повторен в некоторых русских произведениях, например в иконе "Николай Чудотворец" XII в. из Гос. Третьяковской галереи. В подобных образах есть отвлеченная идеальность, к которой всегда тяготело средневековое искусство православного мира, и вместе с тем интеллектуализм, характерный для культуры Константинополя.

Иоанн Златоуст. Соловецкий служебник. Вторая половина XIII в. ГИБ, Сол., №1017
Все художественные средства точны, совершенны, но лишены самоценности, активности. Они призваны лишь облечь в видимое идею, символ. Они отступают перед самым важным - духовным смыслом.
Спокойное благородство письма, глубина и чистота образов этих миниатюр восходит к старой комниновской художественной основе, гармония которой еще не нарушена тем экспрессивным стихийным стилем, который становится все более свойствен искусству византийских периферий второй половины XII в. Нет сомнения, что галицко-волынский мастер был знаком с греческими образцами. Он с подлинным пониманием перенял особую комниновскую манеру, рафинированную и точно определенную в своих принципах, еще классически емкую, но уже завершенную и склонную к некоторой сухости, ту манеру, при которой в письме высокого качества и проникновенности все же ощущается предел возможностей зрелого комниновского стиля.
Миниатюры другой галицко-волынской рукописи XIII в. - Евангелия из Гос. Третьяковской галереи* - не менее высоки по мастерству исполнения и имеют еще более сложный генезис стиля. Всем эмоциональным и стилистическим строем эти миниатюры отличны от изображений в Служебнике Варлаама Хутынского. Вероятно, они возникли в иной художественной атмосфере. Исполнение их темпераментно, индивидуально, полно смелых новшеств, перекликающихся с поисками в современном им искусстве византийского мира. Маленькие по размеру, миниатюрки эти наделены такой сильной живописной, пластической и духовной экспрессией, которой хватило бы на фресковую роспись. В них все имеет повышенную значительность - и экспансивное движение, и густой, сверкающий цвет, и стихийная пластическая лепка. Стиль их, имеющий разноречивые истоки, в целом отличается единством и завершенностью. Ему свойственны энергия, стремительность, откровенность. Уверенность и широта письма искупают некоторую долю провинциального простодушия. Кисть художника - быстрая, торопливая, палитра - яркая, многоцветная. Однако за этой свежестью и непосредственностью стоит сложная живописная структура. Приемы ее систематичны и унаследованы от византийского мастерства. Некоторые из них связаны еще с комниновским стилем. Так, письмо лиц Луки (см. илл.) и Матфея восходит к образцам XII в., и может найти ряд аналогий в живописи византийских периферий, в частности Македонии. Предметы обстановки переданы плоскостно и отвлеченно-декоративно, как в комниновских миниатюрах, развернуты на листе и наподобие ковра испещрены орнаментом. Для миниатюр комниновского времени характерна и парадная роскошь, которая ощущается во всем художественном строе этих листов, в богатстве письма, в изобилии золота. Но все же большая часть приемов мастера отлична от комниновских и восходит к новому, предпалеологовскому искусству. Происходит возвращение от комниновской одухотворенной бестелесности к тяжести, плотности, объему, к открытому цвету, к ощутимости предметов и самоценности самих художественных средств. Мастер делает одежды евангелистов пышными и тяжелыми, драпирует их многочисленными весомыми складками, переполняет их яркими белыми пробелами. Он наделяет пробела не только светоносной и экспрессивной силой, но и почти материальной убедительностью, овеществляет их, превращает из луча, из вспышки в кусок материи. Мастер обладает чувством формы и владеет искусством пластической передачи материи. В письме его нет почти ничего плоскостного. Все круглится, лепится, стремится к завершенности и пластичности форм. Он использует яркие, нарядные, тяжелые тона. Гамма его - многозвучная и открытая, в ней почти нет промежуточных облегченных цветовых градаций. Почти все цвета - настойчивые и концентрированные, сочетания их нередко рискованны по своей малой согласованности. Мастер стремится выявить пространство, представить архитектуру и предметы обстановки в разнообразных ракурсах, в самых фантастических поворотах, чтобы показать их части в наиболее выигрышном положении. Более того, он разворачивает кресла, табуреты и тумбы так, чтобы их поверхности и линии как можно убедительнее сокращались и расширялись в пространстве, а не просто на плоскости листа. Правда, он не пользуется сколько-нибудь последовательной перспективой, и каждый предмет его строится по собственным законам, придуманным и не связанным ни с общим миром, ни с другими предметами.
* (О. С. Попова. Галицко-волынские миниатюры раннего XIII в. (к вопросу о взаимоотношении русского и византийского искусства). - "Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси". М., 1972, с. 283-315.)

Христос. Деталь миниатюры 'Явление Христа женам мироносицам'. Начало XIV в,, вшита в Псалтирь конца ХIII в. ГИМ, Хлуд., № 3
Эти совершенно новые для русской живописи черты - интерес художника к предметности, к конкретному, к сгущенной, откровенной цветности, сама его манера работать, быстрая, свободная, не скрывающая процесса создания форм, - все это особенности отнюдь не комниновского, а предпалеологовского искусства XIII в. Но больше всего новые воззрения эпохи чувствуются в движении, наполняющем миниатюры галицко-волынской рукописи. Динамичность ощущается в них не только как черта их внешнего облика, в порывистости поз евангелистов, в беспорядочности очертаний их развевающихся одежд, но как внутренняя сущность всего художественного строя, ибо даже сама манера письма кажется экспансивной, быстрой. Такая усиленная "подвижность" была характерной чертой для византийских и македонских произведений позднего XII в., созданных в стиле позднекомниновского маньеризма.
Сходный художественный процесс происходит и в западном мире, живопись которого, особенно в германских землях, пережила период позднероманского маньеризма. Искусство этого особого стиля, с его внутренней камерностью и внешней вычурностью, с его стилизованной подвижностью, не адекватной внутреннему состоянию образа, существовало в византийском и в западном художественном мире параллельно и одновременно на рубеже XII - XIII вв., на грани двух больших культур - комниновской и палеологовской в Византии, романской и готической в Европе. С тем и другим миром у Галицко-Волынской Руси могли быть художественные связи. Отголоски этого причудливого и зыбкого стиля очевидны у мастера южнорусских миниатюр. Однако стиль этот в целом никак не исчерпывается понятием "маньеризм". Оно дает объяснение лишь одной особенности письма этих миниатюр - акцентированной подвижности. Особенность эта принадлежит не комниновскому и не палеологовскому искусству, а кратковременному периоду развития живописи, разделяющему эти эпохи. Однако своей экспрессией и свободой письмо галицко-волынского мастера переходит границы позднекомниновского маньеризма. В нем очевидны признаки предпалеологовского и раннепалеологовского искусства.
Элементов нового художественного направления XIII в., предвещающего палеологовскую эпоху, очень много в миниатюрах галицко-волынского Евангелия. Более того, они преобладают над приемами старого комниновского письма. Миниатюры этой рукописи относятся к числу наиболее ранних произведений живописи византийского мира, в которых новые стилевые элементы уже столь активны, что противоречат старому художественному строю XII в. Эти миниатюры говорят о значительном оживлении в искусстве древней Руси раннего XIII в., свидетельствуют о наличии художественного процесса, приведшего впоследствии к палеологовскому ренессансу. В древней Руси этот процесс не получил развития и был искусственно прерван монгольским игом. В XIII в. он дал блестящие результаты в искусстве Сербии. Между тем начало его на Руси было не менее активным, чем у южных славян.
Русская живопись XIII в. не продолжила этих традиций. Изменившаяся после татарского разгрома обстановка, значительное ослабление контактов с внешним миром направили русское искусство по пути упрощенных, более примитивных исканий. Русское искусство XIII в. несет в себе иное мироощущение, а соответственно - иное понимание и образов священной истории и самих возможностей живописи. Оно тяготеет к нерасчлененному, решительному и тяжелому письму, к яркой плоской декоративности, к быстрой доходчивости и почти гипнотической силе образа. Внутренняя углубленность образа, постепенность его раскрытия сменяются ощущением исходящей от него непререкаемости, внезапной, громовой силы. Святые в произведениях русской живописи XIII в. не склонны к размышлениям, к самоуглублению, к беседе с молящимися. Подвижность сменяется полной статичностью, взволнованность - отрешенностью, экспрессия - безучастностью и недоступным личному чувству безмолвием идола. Пластическое осознание формы, ее весомость, ощутимость, вылепленность заменяются распластыванием, абстрагированием и декоративным упрощением форм. Богатые архитектурные кулисы уступают место гладким цветным фонам, уподобленным абстрактной плоскости, исключающим ощущение среды, пространства. Живопись в целом становится более простой и монашески суровой.
Процесс этот протекал на Руси и в иконе, и в миниатюре. Дистанция между лицевыми рукописями домонгольской поры, с их сложным оформлением и письмом высокого мастерства, и рукописями XIII в. очень велика. Рукописные книги XIII в. становятся более простыми, менее роскошными. Орнаментальное убранство их теряет связи с традицией пышных византийских узоров и подчиняется вкусам простого люда, наполняется вымыслом, сказочностью. Вместо торжественной, несколько чопорной импозантности оно несет теперь печать затейливости фольклора. Почти все миниатюры этой эпохи относятся к зрелому и позднему XIII в., т. е. к тому периоду, когда принципы искусства этого столетия получили наиболее полное выражение. Только две исполнены в стиле, восходящем к более раннему времени. Одна из них - миниатюра с изображением Иисуса Христа со св. Григорием и св. Евстафием в рукописи "Беседы Григория Двоеслова на Евангелие" (ГПБ, Пог. 70), созданное в Галицко-Волынской Руси в зрелом XIII в.
Миниатюра следует вкусам своего века, однако во многих приемах ее письма сохранились навыки предшествующей эпохи. В композиции, в постановке фигур нет застылого, отрешенного иератизма, позы не лишены гибкости и естественности. Фигура Христа со свитком в руке всей осанкой своей, правильными пропорциями, движением напоминает античную статую оратора или философа. Видимо, галицко-волынский мастер XIII в. имел возможность пользоваться византийскими образцами, хранящими классические традиции. Лица на этой миниатюре написаны с подлинным мастерством и благородством. Письмо их - сдержанное, вдумчивое, свободное от всякого напряжения. Оно строится на мерных плавях, на ровных и деликатных переходах нюансов коричневого тона, оттененного приглушенной зеленью. Мастер не любит контрастности; в письме ликов он не применяет ни одного красного мазка и пользуется только мягкими переходами полутонов. Такая сосредоточенная, тонкая и продуманная живопись восходит к традициям комниновского искусства, не раз оживавшим на Руси и давшим целую серию русских икон XII и раннего XIII в., типа "Устюжского Благовещения", "Спаса Златые власы", "Николы" из Новодевичьего монастыря и других. Но вместе с тем миниатюра эта вполне современна русской культуре зрелого XIII в. В образах ее властно выявлено внутреннее начало. В письме одежд очевидна склонность мастера к декоративной упрощенности. Одежды всех фигур трактованы как ровные красочные поверхности с идеальной цветовой гладью, с полным отсутствием пробелов, какой-либо линейной проработки или красочной нюансировки. Мастер утолщает все контуры, обрисовывает и делает их цветными. Это усиливает, с одной стороны, ясность, а с другой - емкую условность живописной системы, заключающую в себе возможности для многообразного ее толкования. Стремление мастера подчеркнуть внутренний смысл образа и сделать его общепонятным с помощью элементарных художественных средств согласуется с основным характером русской живописи XIII в.
Полнее всего новые вкусы времени выявились в лицевых рукописях Новгорода. Их сохранилось больше, чем миниатюр какой-либо другой русской школы того времени. Они не равноценны по качеству, но близки по внутреннему смыслу и по конкретным приемам письма. Почти все они относятся к зрелому и позднему XIII в. Только одна из них, возникшая в самом начале столетия, по стилю своему принадлежит к эпохе рубежа XII-XIII вв., к домонгольской живописи Новгорода. Это миниатюра с изображениями св. Пантелеймона и св. Екатерины, соименных заказчикам Пантелеймонова евангелия (Евангелия Тошинича) (ГИБ, Соф. 1).
Миниатюра исполнена в старой, добротной манере, еще далекой от какого-либо упрощения. Образы ее - внушительные и застывшие. Присущий им иератизм слишком значителен для жанра миниатюры. И лишь близость этого изображения к фреске объясняет монументальный его размах. Это, по существу, кусок настенной живописи, перенесенный на рукописный лист, и восприятие его невольно согласуется не столько с возможностями искусства миниатюры, сколько с нормами монументальной живописи.
Письмо этой миниатюры, густое, широкое, переполненное светом, с сильнейшей цветовой интенсивностью, обладает внешней завершенностью и единством. Генезис же ее стиля сложен. Лица Пантелеймона и Екатерины - крупные, массивные, тяжелые. Высветленный, разбеленный слой охры чередуется с большими пятнами красных румян и плотных зеленых теней, постепенно переходящих к охрам и лепящих объем. Тени интенсивно вторят строению формы, округляют и передают ее массив, ее пластическую телесную сущность. В письме лиц нет ни белильных светов, ни подчеркнутых линий и контуров. Пластическая мощь такого письма кажется отголоском византийской живописи X - первой половины XI в., хотя мастер и пользуется более скупыми, схематичными средствами. В искусстве византийского круга долго существовало это осознание тяжести, почти скульптурная вылепленность форм. Это очевидно и во фресках Охрида и Киева XI в., и в ряде византийских и русских икон XII в. Возможно, что одну из них, типа иконы поясного Георгия из Кремля, имел перед глазами мастер этой новгородской миниатюры. Позже, в XIII в., русские мастера не обращаются больше к этому старому типу письма. Его вытесняет более упрощенная, условная манера, не остается уже никаких воспоминаний об осязательном, наглядном ощущении форм, материи.
В иных живописных нормах мастер пишет одежды в своей миниатюре. Он обращается к художественной системе, устоявшейся в новгородских фресках позднего XII в. и широко практиковавшейся в позднекомниновской, особенно периферийной живописи. Он испещряет поверхности пробелами, придает им фресковую широту и угловатость. Формы оказываются распластанными и освещенными. Он стилизует пробела, лишает их случайности, внезапности светового блика, сообщает им декоративную упорядоченность, близкую орнаменту. Он использует цветовые пробела того же тона, что одежды, а также сплошные белые, лиловые и черные линии-нити, чередующиеся с пробелами. Вся поверхность оказывается рассеченной, перегруженной. Моделировка сообщает формам рельефность, красочной структуре - светоносность, а художественному строю - напряженность. Незаполненных красочных поверхностей, важных самих по себе только своей цельностью и декоративностью, мастер избегает. Цветовые плоскости в его письме значимы постольку, поскольку они озарены. Такое экспрессивное письмо для XIII в. стало уже архаичным. Оно исполнено в ключе новгородской, а шире - позднекомниновской монументальной живописи второй половины XII в.
Вместе с тем многие элементы стиля мастера свидетельствуют о тяготении к иным художественным вкусам, определяющимся в русском искусстве XIII в. Отсюда - вертикализм и статичность; незыблемость, иератичность композиции, поз, взоров, самого смысла; излюбленный в Новгороде киноварный фон; наличие в моделировке сети черных линий, близких штриховке, геометрическое упрощение формы, орнаментальность линий, условность и "скованность" всей художественной поверхности. Все эти свойства станут определяющими в послемонгольской живописи Новгорода в XIII в.
Ко второй половине XIII в. относятся миниатюры целого ряда новгородских рукописей: изображение двух святителей перед Христом в Уваровской кормчей (ГИМ, Увар. 124), евангелистов в Симоновском евангелии (Евангелии Георгия Лотыша), 1270 г. (ГБЛ, Рум. 105) (см. илл.)*; ангелов, поклоняющихся кресту, в Захарьевском прологе, 1282 г.** (ГИМ, Хлуд. 187); Иоанна Златоуста (см. илл.) и Василия Великого в Соловецком служебнике (ГПБ, Солов. 1017)***. К этому же типу новгородских миниатюр, исполненных в традициях XIII в., принадлежат изображение Иоанна Златоуста в Служебнике Антония Римлянина начала XIV в. (ГИМ, Син. 605) и большая часть миниатюр (все сцены на полях и две листовые миниатюры с изображением Давида с музыкантами и Давида, пишущего Псалтирь) в Хлудовской псалтири конца XIII в. (ГИМ, Хлуд. 3)****.
* (О. С. Попова. Новгородская рукопись 1270 г. - "Записки Отдела рукописей ГБЛ", вып. 25. М., 1962, с. 184-219.)
** (Г. И. Вздорнов. Лобковский Пролог и другие памятники письменности и живописи Великого Новгорода. - "Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси". М., 1972, с. 255-269. )
*** (Б. П. Денике. Миниатюры рукописей Соловецкой библиотеки. - "Казанский библиофил". Казань, 1921, № 2, с. 24-31. )
**** (Амфилохий, ар хим. О славянской псалтири XIII-XIV вв. в библиотеке А. И. Хлудова. - "Древности. Труды Московского археологического общества", т. III, вып. 1. М., 1870, с. 1-28; он же. Древнеславянская Псалтирь Симоновская до 1280 г., тт. I-IV. М., 1881.)
Лицевых рукописей с миниатюрами того же стилистического типа, созданных во второй половине XIII в. не в Новгороде, сохранилось очень немного. Видимо, в других городах разгромленной татарами Руси их возникло меньше, чем в Новгороде. К числу таких миниатюр относятся многочисленные изображения в тверской Хронике Георгия Амартола конца XIII - начала XIV в. (ГБЛ, МДА, 100) (см. илл.)* и изображение Ефрема Сирина с Василием Великим в галицко-волынской рукописи "Поучения Ефрема Сирина" 1228 г. (ГПБ, Пог. 71а). Однако и эти немногие уцелевшие образцы свидетельствуют о том, что общее развитие стиля во второй половине XIII в. было единым для всего русского искусства. Лишь иногда, в южных областях, этот процесс был выражен не в столь резких формах, как в Новгороде (миниатюра в "Беседах Григория Двоеслова на Евангелие").
* (Д. В. Айналов. Миниатюры древнейших русских рукописей в музее Троице-Сергиевской лавры и на ее выставке. - "Краткий отчет о деятельности Общества древней письменности и искусства за 1917-1923 годы". Л., 1925, т. 11-35; он же. Иллюстрации к Хронике Георгия Амартола. - "Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР", т. III. Л., 1935, с. 13-21; Н. Д. Протасов. Черты староболгарской одежды в славянской миниатюре. - "Труды секции археологии и искусствознания Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук", вып. III; Г. И. Вздорнов. Иллюстрации к Хронике Георгия Амартола. - "Византийский временник", т. 30. М., 1969, с. 205-225. О. И. Подобедова. Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1965, с. 11-48.)

Спас с предстоящими князем Михаилом Тверским и его матерью Оксинией. Хроника Георгия Амартола. Конец XIII - начало XIV в. ГБЛ, МДА 100
Для всех миниатюр того времени характерно господство смыслового начала над живописным и вместе с тем полная понятность и доступность приемов, излюбленные в простонародье нарядность, красочность, почти лубочная плоскостность. Это сочетание высоты смысла и "приземленности" средств, отвлеченности и простодушия проходит через всю русскую живопись XIII в. и через те более поздние произведения, которые следуют ее принципам. Такое понимание и воплощение христианских образов было свойственно восточнохристианскому искусству, но никогда - греческому, всегда хранившему классическую соразмерность, и никогда, кроме XIII в., - русскому, находившемуся в орбите византийского художественного мышления.
В русском искусстве только живопись второй половины XIII в., изолированная от общевизантийской системы, создала образы, одновременно величественные и примитивные, похожие на восточнохристианские не конкретными приемами исполнения, а самой сутью понимания и передачи христианской идеи. Цвет становится открытым, обособленным от других цветов, не имеющим оттенков. Иногда он яркий и чистый, как в Евангелии 1270 г. Иногда, в миниатюрах более грубого письма, тусклый, пригашенный, с подтеками, как в Соловецком служебнике; но и в таком виде он согласуется с новыми вкусами времени, он предельно прост, лишен постепенности тональных переходов и глубины, предназначен для раскрашивания плоских поверхностей. Пропадает интерес к форме и умению передать ее пластичность. Во всем откровенно подчеркивается линейность - в обрисованности силуэтов, в штриховой прочерченности одежд, в декоративной роли рисунка. Напряженная духовная настроенность передана только с помощью выразительного рисунка. Сама живопись не принимает в этом никакого участия, более того, своей простотой и красочностью призвана разрядить это напряжение. В некоторых миниатюрах этот принцип, доведенный до крайности, приводит к неполной закраске поверхности, к скупой и случайной цветовой проработке (Служебник Антония Римлянина); иногда он распространяется даже на письмо лиц (Соловецкий служебник)*. Плотная красочная живопись заменяется облегченной подцветкой. По отношению к большой живописи - фреске и иконе - миниатюра становится более самостоятельной, чем ранее. При всем том она не придерживается иллюстративного, специфически книжного стиля, по-прежнему следует задачам большого искусства. Более того, она вновь нередко копирует его образцы, переносит на рукописный лист его образы и приемы: например, лица евангелистов в Евангелии 1270 г., близкие фрескам Нередицы, или миниатюра в Захарьевском (Лобковском) прологе, по композиции аналогичная иконе с изображением двух ангелов, поклоняющихся кресту (оборот "Спаса Нерукотворного" XII в., ГТГ), а по стилю воспроизводящая фреску. Старая традиция зависимости миниатюры от фрески еще сильна и всплывает в архаических для XIII в. элементах письма миниатюр. Однако сам новый стиль русской живописи XIII в., в основе своей графический, приближается к миниатюре и соответствует ее возможностям.
* (А. Никифоров. Соловецкий служебник XIII века. - "Казанский библиофил". Казань, 1921, № 2, с. 31-44.)
По приемам письма миниатюра сближается с современными ей иконами. И в миниатюрах, и в иконах в это время впервые в русской живописи вырабатываются основные черты плоскостного, красочного, контрастно-декоративного художественного языка, совсем не адекватного стилю византийской живописи и характерного только для русского искусства. В полную меру он выявится позже, определив собой русскую (особенно новгородскую) живопись XV в. Основы же его - уже в манере письма XIII в., отошедшей и от навыков монументального искусства, и от художественной сложности византийской системы. Правда, в XIII в. этот стиль не получает еще чистоты и отточенности, сочетается с привычной оглядкой на фресковое письмо и, главное, со старой интерпретацией смысла художественного образа. В нем нет еще ни малейшего лиризма, простодушия или какой-либо соотнесенности с человеческим масштабом, никакого нового внутреннего осмысления, которое соответствовало бы этим лаконичным приемам письма и в сочетании с ними легло в основу русской национальной школы живописи.
Русские миниатюры XIV в. отличаются гораздо большим разнообразием и сложностью. Лицевых рукописей XIV в. много больше, чем предшествующего столетия. Они созданы в различных городах, причем новгородские уже отнюдь не преобладают, а делят первенствующее место с московскими и по численности, и по качеству, и, особенно, по сложности художественных связей. Миниатюры XIV в. уже не подчиняются единым вкусам. Нет, как это было в XIII в., общеобязательного направления, как стилистического, так и смыслового. Прежде всего характерна многоликость, отражающая различные тенденции и ориентиры, существующие в художественной жизни того времени. И все же этой пестрой картине свойственны некоторые общие черты, выражающие основное в художественном движении эпохи. В самой разноречивости их ряда очевидно отсутствие твердого устоя и бесспорности понятий. В большинстве миниатюр ощущается интерес мастеров к новшествам. Виднее становится тяготение к иноземным искусствам, византийскому и южнославянскому, интенсивнее использование их принципов и конкретных образов. Более того, возникает интерес к западноевропейскому искусству. Так, в миниатюрах западнорусского Лаврашевского евангелия раннего XIV в. (Краков, Национальный музей, CZ. 2097)* совершенно очевидно использование многих элементов готического стиля. Возрастает внимание к собственно художественному началу, к самой живописи. Требование к мастерству становится не меньше, чем к точности передачи образа. Качество исполнения миниатюр делается выше, сам способ их письма - сложнее, искуснее. Русская миниатюра, в XIII в. изолированная от византийского художественного мира, в XIV в. вновь соприкасается с ним. Более того, в лучших своих образцах, созданных во второй половине века, она по содержательности и качеству мало чем уступает греческим произведениям. К концу же века она отличается по сравнению с ними едва ли не большим богатством и многоплановостью. Не ограничиваясь повторением и переосмыслением основ византийского палеологовского ренессанса, русская живопись к концу XIV в. приходит к созданию своей, чисто русской национальной школы. Оформившись не без влияния палеологовского искусства, она вышла за его пределы. Искание своего образа и стиля, потребность в оформлении и единстве живописного языка, при наличии яркого, но пестрого художественного многоязычия, - одна из основных черт русского искусства XIV в., со всей очевидностью выступающая при рассмотрении миниатюр.
* (И. Свенцицкий. Лаврашевское евангелие начала XIV века. - "Известия Отделения русского языка и словесности ими. АН", т. XVIII, кн. I. СПб., 1913, с. 207-228; М. V. Mole. Les miniatures de l'Evangeliaire de Lavrachev. - "L'art byzantin chez les Slaves". Deuxieme recueil dedie a la memoire de Theodore Ouspenskii. Paris, 1932, p. 421-437.)
Большая часть лицевых рукописей XIV в. относится ко второй его половине. Миниатюр первой половины века немного. Общий характер последних отличается сильнейшим тяготением к традиции, сочетающимся со стремлением вдохнуть в нее новую жизнь. Обновление стиля живописи происходило медленно, но по сравнению с предшествующим периодом - заметно. Это был процесс, подобный постепенной активизации жизни страны, еще находящейся под монгольским контролем, но все более проявляющей независимость. Использование старых традиций в русском искусстве раннего XIV в., видимо, объясняется тем, что суровый, жесткий художественный язык XIII в., рожденный в самые тяжелые времена татарского порабощения, требовал изменений, большей гибкости, а новые живописные формулы еще не были найдены. Традиции эти различны. Мастера-миниатюристы используют и художественные навыки искусства XIII в. (маленькие иллюстрации среди текста в Хронике Георгия Амартола, миниатюра в Служебнике Антония Римлянина), и образы монументального искусства XII в. (Сийское евангелие, 1340 г.; БАН, собр. Археогр. комиссии, 189 (см. илл.)*, и ранние образцы, восходящие к киевской эпохе (выходная миниатюра в Хронике Георгия Амартола и особенно две миниатюры в Федоровском евангелии, около 1320 г. (Ярославский музей, 15718 (см. илл.)**. Иногда мастера обнаруживают знание принципов византийского комниновского стиля (Федоровское евангелие). Вместе с тем в миниатюрах почти всех этих рукописей заметны черты нового подхода к образу и письму, иногда частные или разрозненные, иногда активные, представляющие собой смелый эксперимент и плохо уживающиеся со старыми приемами. Таковы миниатюры Федоровского евангелия, исполненного в 20-х годах XIV в. в Ярославле или Москве, вероятно, по заказу епископа ростовского Прохора, как вклад по ярославском князе Федоре Черном (умер в 1299 г.). Рукопись украшена двумя современными ей миниатюрами. На первой представлен Федор Стратилат, соименный князю Федору Черному. На щите его изображен барс - эмблема князя из владимиро-суздальского дома. На второй миниатюре - евангелист Иоанн с учеником Прохором, патроном заказчика рукописи. Обе миниатюры поражают торжественностью и пышностью, совсем утерянными в искусстве XIII в. Как будто вновь воскресли вкусы киевского княжеского дома, для которого изготовлялись манускрипты XI в. Интерес к образцам роскошных киевских рукописей, вновь возникший в Северо-Восточной Руси в начале XIV в., видимо, закономерен. Традиция эта очевидна и в оформлении домонгольских ростовских рукописей раннего XIII в. Поэтому не случайно мастер миниатюр Федоровского евангелия, происходивший из тех же мест и, без сомнения, знавший ранние лицевые рукописи, возможно ростовские, берет за основу своего письма тот же парадный стиль, полный царственного великолепия, с наличием множества украшений, с фантастичностью красочных сочетаний со всей его декоративной сущностью. Вместе с тем письмо этих миниатюр по своим художественным средствам близко стилю комниновского искусства, отличающегося тончайшим спиритуализмом. Мастер лишает формы - плоти, материю - вещественности, линии - конструктивной роли, краски - цветовой натуральности. В письме его нет намека на какую-либо моделировку, объем, тяжесть или осязаемость и иллюзорность. Фигуры абсолютно плоскостны. Контуры их обведены золотом. Одежды, особенно в миниатюре с Федором Стратилатом, не имеют складок, раскрашены красками, подобными драгоценным камням, распростерты на идеальной глади листа. Их расчерчивают широкие золотые штрихи, своей открытой декоративностью и неминиатюрным размахом напоминающие ассист ярославской иконы "Богоматерь Оранта". Впечатление импозантности создается благодаря пышному узорочью, особенно в миниатюре с Федором Стратилатом, где все изображение сплошь покрыто разнообразными орнаментами, никак не подчиняющимися скруглениям и пластическим закономерностям масс. Мастер выбирает редко употребляющиеся краски, интенсивные, сияющие, не соответствующие обычным цветовым впечатлениям. В миниатюре со св. Иоанном основные цвета - красный с холодным малиновым оттенком и зеленовато-голубой, "цвет морской воды", искусственный, светлый и насыщенный, всего более похожий на эмаль. Все это в сочетании с обилием золота и темно-голубым фоном создает церемониальное богатство листа. Сочетание декоративного и ирреального сильнее всего чувствуется в миниатюре с Федором Стратилатом. В ней нет ни фона, ни привычного позема. Вместо фона оставлен чистый пергамен, вместо позема - орнаментальная полоса, вместо рамы и архитектуры - византийский орнамент в виде ветвей-канделябров с павлинами наверху. На таком листе, беспространственном и изысканно-декоративном, вырисовывается легкая удлиненная фигура с маленькой головой, как бы балансирующая на носках в неустойчивой позе, лишенная какой-либо опоры. Иррациональная сторона этого стиля восходит к идеальности и одухотворенности комниновской живописи, а изобилие декора - к пышности киевского придворного искусства.
* (Г. Г. Богуславский. Рукописное пергаментное Евангелие апракос Антониева-Сийского монастыря 1339 г. - "Архангельские епархиальные ведомости". Архангельск, 1902, № 23-24; И. Сибирцев. Рукописное Сийское евангелие 1339 г. Уфа, 1913; Г. И. Вздорнов. Из истории искусства русской рукописной книги XIV века. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", [сб. 1]. М., 1972, с. 140-171; он же. Искусство книги в древней Руси..., с. 67-77.)
** (А. И. Некрасов. Возникновение московского искусства, М., 1929; Г. И. Вздорнов. Искусство книги в древней Руси..., с. 32-36.)

Отослание апостолов на проповедь. Миниатюра из Сийского евангелия. 1340 г. БАН, собр. Археогр. комиссии, № 189

Федор Стратилат. Федоровское евангелие. Около 1320 г. Ярославский музей, № 15718
Особенности стиля мастера, восходящие к уже изживавшим себя традициям, самым причудливым образом сочетаются в его письме с совсем иным живописным началом, являющим собой вполне индивидуальный опыт осмысления стилевых новшеств эпохи. Мастер пишет лица в свободной, нескованной живописной манере. Возможно, наряду со старинными образцами он был знаком и с оригиналами палеологовского времени. Всего смелее пишет он лицо Федора; приемы исполнения его весьма своеобразны, хотя и несовершенны и как бы случайны. На темный коричневый нижний слой, оживленный лишь легкой подрумянкой, он набрасывает множество густых темно-зеленых теней, не подчиненных каким-либо законам освещения, возникающих случайно, прихотливо. Свободно разбросанные зеленые мазки, кажется, блуждают по лицу, стелятся подтеками, пятнами. По всей этой буровато-зеленой стихии теней мастер кладет мелкие белильные блики, столь же неожиданные, как и зеленые, хорошо заметные пятна. Такая сильная, хотя и хаотическая, моделировка лица создает впечатление игры светотени, со вспышками и темными провалами. Бессистемность, подвижность, открытая фактурность такой живописи уничтожает схематическую плоскость, выявляет пластику, обнаруживает округлость и тяжесть объема. В таком письме нет интереса ни к отвлеченной графике, ни к застылой, иератичной монументальности форм. Вместо этих черт, всегда до сих пор почитавшихся в русской живописи, в манере письма миниатюры Федоровского евангелия есть мягкость, живость, естественность. Это заметно и в типе лица Федора с его мелкими, индивидуальными чертами, во всем его более интимном облике, не имеющем уже ничего общего с суровыми и "пронзительными" образами XIII в.
Выработанного, устоявшегося стиля в письме миниатюры еще нет. В нем немало от старого, привычного метода. В основе его все еще лежит контрастность, а не сплавленность, расчлененность масс и резкость тонов, а не сглаженность и единство живописной поверхности, заметность красок, а не тоновая стушеванность их. И все же очевидно, что живописная структура основана на иных, чем в XIII в., художественных принципах, что незыблемость старой системы пошатнулась. Пока это еще проба мастера, его личный опыт, как бы первооткрытие. Точно в такой же манере мастер пишет два лика Спаса на второй миниатюре с Иоанном. Лица же Иоанна и Прохора написаны с большей строгостью. Кажется, что они созданы в ином живописном ключе, чисто византийском, с характерной для него пластичностью, осязаемостью, точной и упорядоченной красочной лепкой, многослойностью. Последнее до сих пор не было свойственно русской миниатюре. Лишь в XIV в. многослойный метод письма со сложным, постепенным наложением слоев краски был перенят русскими мастерами-миниатюристами. Заметных красочных мазков и бликов в этих миниатюрах намного меньше, чем в лице Федора; они крупнее, весомее и положены на точно выверенных местах. Пластичность понята в самой своей сути. Она передана не за счет внешнего источника света и рожденного им мелькания бликов и теней на поверхности, а благодаря перетеканию красок, создающему правильную округлость формы. Трудно сказать, проявились ли в этих двух типах письма лиц разные принципы мастера, исходящие из различия образцов, или же здесь сказалась большая и меньшая удача его. Главное же в его манере - подвижность художественной структуры, ее чисто живописная пластическая основа - присуще письму лиц во всех миниатюрах. Эти черты выдают новые искания в русской живописи XIV в., во многом аналогичные тем, которые свойственны палеологовскому искусству.

Евангелист Иоанн. Деталь миниатюры Евангелия XIV в. ГПБ. (Увеличено.)

Христос Деталь миниатюры Евангелия из Переславля-Залесского. Конец XIV - начало XV в. ГПБ. (Увеличено.)
Подобное же соединение старых понятий и новшеств очевидно и в миниатюре "Отослание апостолов на проповедь" в Списком евангелии 1340 г.*, созданном в Москве, при Иване Калите, писцами дьяками Мелентием и Прокопием и мастером Иоанном по заказу чернеца Анании как вклад в монастырь Богородицы на Двине. На миниатюре - двенадцать стоящих толпой апостолов застыли перед Христом, выходящим из храма. Все здесь выглядит крупным и внушительным. И смысл образов, и многие особенности стиля восходят к старой русской живописи. Облики апостолов - того же типа, что и в новгородской живописи XII - XIII вв. Они лишены какого-либо индивидуального оттенка. Всем им присущи одинаковое внутреннее содержание и большое внешнее сходство, акцент на сильном чувстве, одна мысль, представленная во многих лицах. Такая повторяемость единого - свойство архаических искусств. Из приемов старого русского искусства, в частности XIII в., почерпнуты и те немногие и несложные, но насыщенные средства, которыми достигается внешняя выразительность обликов. Эмоциональное напряжение мастер передает, как и раньше, не живописью, а только рисунком, только главными линиями, точно обрисовывающими черты лица. В этой живописи есть нечто общее со средневековой романской скульптурой, с ее неподвижностью, тяжестью и мощью. Сама живопись, как и в XIII в., сводится к раскраске, простой, почти случайной. Краска кладется тончайшим полупрозрачным слоем, подобно акварели. Письмо так упрощено, что для высветлений вместо белил иногда использован оставленный чистым пергамен. Композиция абстрактна, в ней нет не только позема, но вообще никакой горизонтальной черты. Грузные фигуры расположены в отвлеченной, беспространственной сфере. Во всей сцене - оцепенение и отрешенность. Непререкаемость внутреннего смысла, тяжеловесность фигур, архаичность обликов, особая манера письма лиц с выразительным контуром и бедной, слабой, тонкослойной раскраской - все это черты русской миниатюры XIII в., использованные мастером Сийского евангелия в XIV в. И все же нельзя сказать, что они определяют художественный строй миниатюры. В письме ее есть и совершенно иные приемы, отличающиеся большей свободой, современные эпохе XIV в. Колорит ее - светлый, нарядный и мягкий, с обилием глубоких, золотисто-желтых и изумрудно-зеленых тонов. Одежды написаны широко, с размахом, почти как на фреске, но без схематической условности ее приемов, а более естественно и свободно. Крупные, мягкие складки переданы переливающимися цветами самой материи, а не с помощью заостренных пробелов, как ранее. В письме одежд мастер местами достигает тончайшей красочной проработанности и цветовой прозрачности, до сих пор почти незнакомых русскому искусству, выбиравшему чаще всего, особенно в XIII в., чистые, открытые тона. Особенно это очевидно в письме одежд апостола Петра, где голубой хитон просвечивает сквозь светло-коричневый тонкий плащ. Множество полутонов, красочных переплетений, смешений оттенков голубого, серого и золотистого, цветовые рефлексы и прозрачный кроющий слой белил делают поверхность глубокой и блестящей. В этом письме, выполненном с ощущением цвета и материи, с пониманием того, как лежит и светится ткань, есть индивидуальная свобода и мастерство, граничащие с артистизмом. Даже в архаичном письме лиц есть некоторая легкость и живость. Красочные пятна в них лишены неподвижности и точной фиксированности. Они соседствуют более случайно и соприкасаются более свободно, чем в миниатюрах XIII в. Само наложение их подчинено пластическим законам. Краска кладется хотя и жидко, но круглящимися мазками, соответствующими строению объема. В живописи лиц не употребляются отчетливые цвета, письмо их строится на полутонах, что делает живописную поверхность более согласованной, тональной. При сохранении старой трактовки внутреннего образа в стиле миниатюры столь много смягченности, живости, тяготения к соразмерности, что в общем эмоциональном и живописном строе преобладают новые черты, общие для искусства палеологовской эпохи.
* (Г. Г. Бугославский. Рукописное пергаменное евангелие апракос Антониева-Сийского монастыря 1339 года. - "Архангельские епархиальные ведомости", 1902, № 23, с. 812-827; № 24, с. 844-863; Г. И. Вздорнов. Искусство книги в древней Руси..., с. 67-74.)
Чрезвычайное сходство с миниатюрой Сийского евангелия, близость ее общему характеру и даже конкретной манере исполнения обнаруживает миниатюра, хранящаяся в Гос. Русском музее. На большом пергаменном листе изображена сцена поднесения волхвами даров Богоматери, сидящей с младенцем на руках на троне. Миниатюра сохранилась плохо. В правой части ее, в изображении Богоматери и архитектурных палат фона, красочный слой почти целиком осыпался, обнажился первоначальный рисунок и подготовительная тонировка. Поэтому письмо миниатюры сначала кажется более сухим, рисованным, лишенным плотной красочной поверхности, т. е. более поздним, линейностью своей восходящим к XV в. Но это обманчивое впечатление, происходящее от неполной сохранности красочного слоя. Прекрасно уцелевшие фигуры волхвов имеют очень большое сходство с фигурами апостолов из Сийского евангелия. Они близки и внешним обликом, и общими особенностями стиля живописи (при рассмотрении его встает совершенно тот же круг проблем, что и в связи с миниатюрой Сийского евангелия), и нетиповым отбором красок, и индивидуальным обращением с цветовой поверхностью (просвечивающие краски, цветные рефлексы, лессировки, соотношение цветовых пятен, степень плотности фактуры и т. д.). Вероятно, эти миниатюры созданы одним мастером. Столь ранней датировке листа с изображением "Поклонения волхвов" не противоречат и формы архитектуры на заднем фоне, сложной, многоэтажной, тяжелой. Такое палатное письмо, восходящее в конечном счете к палеологовским архитектурным фонам, известно по ряду русских произведений XIV в. начиная именно с 30-х - 50-х годов (Царские врата из бывшего собрания Н. П. Лихачева; Хлудовское евангелие, ГИМ, Хлуд. 30 и др.). Своей массивностью, условно понятными конструктивностью и "утилитарностью" оно отличается от невесомых, чисто декоративных архитектурных кулис в русской живописи XV в. Более того, можно сказать, что миниатюра с изображением "Поклонения волхвов" не только современна миниатюре Сийского евангелия и сделана тем же мастером, но что она, вероятнее всего, вырезана именно из Сийского евангелия: почти точно совпадают размеры листов, идентичен характер пергамена, одинаково редок и нетипичен для русских рукописных евангелий выбор сюжетов обеих миниатюр.
Сложность живописной природы русских миниатюр XIV в., созданных до 40-х годов, свидетельствует о неоднородности течений в русской художественной жизни этого времени. Черты обновления, столь заметные в их стиле наряду со старыми традициями, не были рождены именно в искусстве миниатюры. Безусловно, эти миниатюры были не единственными художественными созданиями, отразившими новшества в искусстве XIV в. Вероятно, начавшееся влечение к новому образу и письму проявилось в самых разных видах искусства, о чем свидетельствуют снетогорские фрески 1313 г. и Васильевские врата 1337 г. Но время сохранило мало таких произведений. Миниатюры отчасти восполняют этот пробел.
Все рассмотренные памятники XIV в. относятся к Москве или, более широко, к Северо-Восточной Руси (Федоровское евангелие, возможно, происходит из Ярославля). Но аналогичная эволюция стиля прослеживается и в миниатюрах Новгорода. В созданной там в конце XIII в. Хлудовской псалтири (ГИМ, Хлуд. 3), наряду с двумя листовыми миниатюрами и изображениями на полях, исполненными в стиле XIII в., есть вшитая в рукопись выходная миниатюра размером в полный лист, вероятно, раннего XIV в. с изображением "Явления Христа женам мироносицам" (см. илл.)*. Она отличается соразмерными пропорциями, живым движением. В стиле ее ощущается отзвук палеологовского искусства.
* (О. С. Попова. Новгородская миниатюра раннего XIV в. и ее связь с палеологовским искусством. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", [сб. 1]. М., 1972, с. 105-139.)
Все та же неоформленность течений, отсутствие единства стиля, склонность к обновлению его вместе с привязанностью к традициям, еще большая очевидность контактов с византийским искусством характеризуют русскую художественную жизнь и второй трети XIV в., когда усиливаются тенденции, определившиеся в начале столетия. Восстановленные связи с византийским искусством, прослеживаемые в раннем XIV в. только в самой живописной структуре произведений, с 40-х годов получают и документальное подтверждение. По свидетельству Троицкой летописи, в течение 40-х годов в Москве работали три артели фрескистов, расписавшие несколько соборов. Одна из них состояла из греческих мастеров, другая - из русских, третья - из русских, учившихся у греков. Стенописи, сделанные ими, не сохранились, но некоторые из уцелевших икон того же времени свидетельствуют о высоком профессионализме русских мастеров, об интересе их к греческим образцам. В Новгороде также работали греческие мастера: в 1338 г. "гречин Исайя с другы" выполняет заказ архиепископа Василия. Миниатюры теперь не единственный и не самый яркий выразитель художественного движения времени.
От этого периода сохранилось всего четыре лицевых рукописи (около середины XIV в.), причем ни одна из них не вышла из Москвы, где художественная жизнь в ту эпоху была наиболее оживленной и созидательной и куда выписывались мастера "из греков", вероятно константинопольские живописцы, знавшие лучшие образцы палеологовского искусства. Три из этих рукописей созданы в Новгороде: Евангелие из собрания Хлудова (ГИМ, Хлуд. 30) (см. илл.), Евангелие из собрания Румянцева (ГБЛ, Рум. 113) (см. илл.) и Сильвестровский сборник (ЦГАДА, Типогр. 53); четвертая - быть может в Западной Руси: Оршанское евангелие (ЦБАН УССР, ДА. П. 555). Все они (кроме Сильвестровского сборника)* близки между собой, хотя миниатюры Оршанского и Румянцевского евангелий передают общие для всех них принципы с большим огрублением и упрощением. Самые высококачественные миниатюры - изображения евангелистов в Хлудовском евангелии, 30**.
* (И. И. Срезневский. Сказания о святых Борисе и Глебе. Сильвестровский список XIV века. СПб., 1860. Д. В. Айналов. Миниатюры "Сказания о св. Борисе и Глебе". Сильвестровского сборника. - "Известия Отделения русского языка и словесности ими. АН", кн. 3. СПб., 1910, с. 1-128; А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944, с 157-176.)
** (О. С. Попова. Новгородские миниатюры второй четверти XIV в. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", сб. 2. М., 1974, с. 70-99.)

Евангелист Лука. Евангелие. Около середины XIV в. ГИМ, Хлуд., № 30

Евангелист Матфей. Евангелие. Около середины (второй половины?) XIV в. ГБЛ, Рум., № 113
Если в художественном строе миниатюр первой трети XIV в. еще очень сильны тенденции старого искусства, домонгольского или периода XIII в., то в миниатюрах середины XIV в. определяющими являются уже элементы нового стиля. Миниатюры Хлудовского евангелия по внешнему облику и внутреннему смыслу не имеют почти ничего общего со своими предшественниками. Они полны активности и стремительного движения. Отрешенность сменяется в них экспрессией, внеличностность - наглядностью, поиски условной декоративности - стремлением к объемности и пластической осязаемости. Мастер, кажется, хочет вернуть формам вещественность и одновременно наделить их одухотворенностью. Манере его свойственны зрительная достоверность изображаемого и вместе с тем заметная утрированность всех средств. Он перегружает лист, утяжеляет композицию, убеждает в материальности вещей. В письме его немало наивного преувеличения. Он делает фигуры слишком крупными, одежды - пышными и шумными, складки материи- грузными, драпировки - чересчур многочисленными и бурными. Все фигуры и предметы он стремится поместить так, чтобы показать их пластику или подчеркнуть ракурс. Архитектурные фоны обладают непривычными для миниатюры сложностью и богатством форм, порой граничащими с фантастической нагроможденностью. В зданиях множество окон, колонн, дверей, различных членений. Во всех конструкциях очевидна пластическая мощь форм, конкретность их воплощения. Здания имеют некоторую, хотя и косвенную, соотнесенность с реальными. Они не могли бы существовать отнюдь не из-за абстрактной бесплотности, а, наоборот, из-за перегруженности масс и неупорядоченности их соотношений. В письме лиц и рук - то же стремление к осязательности, желание выявить их пластическое, почти скульптурное строение. Иногда этому мешает старая, плоскостная манера письма, но иногда это вполне удается мастеру. На зеленоватый санкирь накладываются красные и розовые высветления, лепящие форму. При всей своей яркости и отчеканенности они обладают плавной текучей формой и постепенностью переходов.
Всему этому наглядному художественному строю мастер хочет придать экспансивность, взволнованность, что резко отличает его манеру от застылого, отвлеченного стиля XIII в. Фигурам евангелистов он сообщает подвижность, некоторым позам - оригинальность (Матфей изображен в профиль), пробелам -широкий, почти фресковый размах, белильным светам в лицах - резкость и внезапность вспышки. Основные черты его почерка рождены желанием осмыслить далекие события как что-то конкретное и личное, а художественную форму сделать наиболее осязаемой и доступной восприятию. Его тяжелый, весомый, патетический стиль соответствует определенной стадии развития византийской и южнославянской живописи, которую она прошла в позднем XIII в., до окончательного оформления принципов классического палеологовского ренессанса. Возможно, это сходство объяснимо тем, что новгородский мастер пользовался греческими образцами. Восхождение этих миниатюр к каким-то конкретным протографам подтверждается и необычайной близостью их Царским вратам из бывшего собрания Н. П. Лихачева, видимо, созданным по тем же образцам. Но не исключено, что сходство стиля новгородских миниатюр середины XIV в. и византийской живописи XIII в. объяснимо лишь соответствием этих этапов развития византийского и русского искусства.
Миниатюры второй половины и особенно последней трети XIV в., - как и вся живопись этого периода, отличаются наибольшей, чем когда-либо в русском искусстве, сложностью и разнообразием. Впервые в художественной жизни Руси миниатюра приближается по своему значению к другим видам искусства. Количество лицевых рукописей возрастает. По качеству миниатюры теперь часто не уступают фреске и иконе, а иногда и превосходят последние. Иллюстрирование рукописей, по-видимому, поручается теперь нередко лучшим художникам. Конечно, наряду с произведениями высокого мастерства существуют и заурядные лицевые рукописи с миниатюрами грубого письма. Но не они определяют уровень искусства миниатюры.
Дошедшие до нас миниатюры того времени представляют собой пеструю картину. Наряду с лицевыми рукописями из Новгорода и Москвы сохранились рукописи из всевозможных мест, например из Смоленска, Рязани, Владимиро-Суздальского края, Пскова, Галича Костромского, Ярославля. Все эти миниатюры поражают стилистическим разнообразием. Они не имеют ни единства внутреннего осмысления, ни общности манеры письма, столь очевидных до XIV в. Художественная жизнь эпохи была полна исканий. Единый живописный стиль еще не был найден, среди множества направлений еще не произошло отбора и централизации, со временем внесшей в русское искусство отпечаток стандарта.
Миниатюры этого периода разделяются на ряд стилистических групп, принадлежащих к разным художественным движениям эпохи. Почитание старых русских традиций сочетается с интересом к новшествам, приходящим из иноземных искусств православного круга. При этом второе явно преобладает. В миниатюре используются приемы, близкие индивидуальной манере Феофана Грека. Копируются образцы византийские и афонские, южнославянские и молдавские. Создается особый, синтезированный Андреем Рублевым стиль, который станет национальным русским и ляжет в основу письма и миниатюр, и икон, и фресок XV в.
Корнями своими он восходит не только к владимирско-суздальским традициям, но перекликается также с некоторыми из художественных направлений, существовавших на Руси, особенно в Москве, во второй половине XIV в.
Как показывают миниатюры, все эти художественные течения существовали одновременно и параллельно в разных центрах, главным же образом - в Москве, Новгороде, Пскове. Лишь некоторые из них можно наблюдать только в московской живописи. При всем конкретном различии между ними есть и некая общность. Это дух поисков, широта контактов с внешним миром, а главное, связь с византийской палеологовской культурой и теми религиозно-философскими движениями, которые определяли ее во второй половине XIV в.
Самое широкое направление в русской миниатюре этого периода, представленное наибольшим числом лицевых рукописей, связано с именем и кругом Феофана Грека. Почти все они созданы в Новгороде и в Москве. Новгородские рукописи этого круга - так называемая Псалтирь Грозного (ГБЛ, М., 8662) (см. илл.). Погодинский пролог (ГПБ, Пог. 59), Типографский пролог (ЦГАДА, Типогр. 162), Толковая палея (ГПБ, СПб., Дух. Ак. А. I. 119); московские - Евангелие конца XIV - начала XV в. (ГБЛ, Рогож. 136) (см. илл.), Евангелие Чудова монастыря (ГИМ, Чуд. 2) (см. илл.), "Лествица Иоанна Лествичника" первой трети XV в. из коллекции В. А. Десницкого (см. илл.). Среди миниатюр этих рукописей есть образцы высокого качества письма, как, например, в Псалтири Грозного и Рогожском евангелии*, есть и совсем примитивные создания, как в Толковой палее. Большая же часть их исполнена в экспрессивной, поспешной, небрежной манере, далекой от художественной отточенности, но полной свежести, внутреннего и внешнего движения. Их стиль близок резкому, обобщенному, непроработанному в деталях письму фрески. Кажется, что все они выполнены торопливо и внезапно, в момент озарения - они полны вспыхивающего, пронзительного света, столь характерного для новгородских фресок круга Феофана Грека. Почти все они написаны широко и темпераментно, без иконной гладкости и миниатюрной ювелирности, а размашистыми красочными слоями и крупными мазками белил.

Асаф. Псалтирь Ивана Грозного. Последняя треть XIV в. ГБЛ, № 8662

Евангелист Лука. Евангелие. Конец XIV - начало XV в. ГБЛ, Рогож., № 136

Четыре евангелиста. Евангелие. Конец XIV в. ГИМ, Чуд., № 2

Иоанн Лествичник с монахами. Лествица Иоанна Лествичника. Первая треть XV в. ГБЛ, собр. В. А. Десницкого

Лествица небесного восхождения. Миниатюра Лествицы Иоанна Лествичника Первая треть XV в. ГБЛ, собр. В. А. Десницкого
* (О. Popova. Les miniatures russes..., pl. 44-46.)
Всего ближе к фресковому письму последней трети XIV в. стоят миниатюры новгородских рукописей этой группы. Мастера их следуют не столько манере самого Феофана Грека, сколько стилю новгородских стенописей этого времени, созданных под несомненным впечатлением от работ Феофана Грека, например фрескам церквей Волотова поля и Федора Стратилата. Лучшими по качеству письма являются миниатюры Псалтири Грозного (последняя треть XIV в.)*. Не раз отмечалось их большое сходство со стенописями Волотова. На одной миниатюре Псалтири изображен царь Давид, на другой - псалмопевец Асаф, со свитками в руках. Каждый из них - Давид в рост, Асаф по пояс - представлен как бы внутри храма, в условно переданном интерьере его. Храмы выглядят не как иллюзорное изображение какой-либо архитектуры, а как плоскость, символизирующая разрез здания и сплошь застланная новгородским тератологическим узорочьем. Характерный средневековый звериный орнамент, состоящий из сплетений фантастических чудовищ, гротескных изображений людей и бесчисленных завязей жгутов, отличается в этой рукописи изысканной каллиграфией и великолепным декоративным эффектом. Светлый, цвета пергамена, с легчайшими киноварными контурами и деликатными желтыми оттенениями, он выделяется на интенсивном темно-голубом фоне подобно белокаменной резьбе на глади церковных стен. Это символическое изображение храма, с куполами и крестами, и это же - идеальное по своим декоративным возможностям оформление листа.
* (В. Н. Лазарев. Феофан Грек и его школа. М., 1961, с. 67.)
Фигуры Давида и Асафа написаны уверенно, легко и точно, рукой очень опытного мастера. Немногословность живописных средств и точность их выбора выдают руку фрескиста. В миниатюрах ощущается эскизность, но одновременно - полная законченность. Основной художественный прием - асимметрия. Мастер смещает линии лица, вносит в его черты характерную неправильность. Он кладет светлые зеленые и розовые тени непропорционально, но еле заметно и потому неназойливо. Он освещает лицо белильными пятнами свободно, без какой-либо жесткой, симметрической определенности, а не так, как это было раньше, в комниновской и русской художественной системе XII в. Высветления не похожи на резкие движки; мягкостью своей они создают иллюзию скользящих бликов света. Он лишает четкой симметрии и тем самым незыблемой определенности даже контуры фигур, особенно Асафа, рисуя неправильный, зигзагообразный вырез его платья, освещает его хитон как бы случайными пробелами. Красочную поверхность миниатюр, состоящую из голубых и коричневых тонов разных оттенков, мастер делает светлой и активной. Пронизанная светом, переливающаяся под действием его невидимых лучей, она кажется изменчивой и подвижной. Все эти быстрые, скорописные, неточные приемы письма напоминают стиль волотовских фресок, образам которых близки пророки на этих миниатюрах.
Другие новгородские миниатюры этого круга не обладают такой чистотой стиля и высоким качеством исполнения. Они более грубы, в них нет такой отработанности и завершенности манеры, как в Псалтири Грозного. Письмо их представляет собой использование лишь отдельных черт этого стиля. Все они не миниатюры во весь лист, обладающие самостоятельным значением и важным местом в рукописи, как в Псалтири Грозного, а небольшие изображения среди текста, поясняющие его. Характерная новгородская рукопись такого типа - Погодинский пролог второй половины XIV в.
Ее миниатюры, изображающие Симеона и мать его Марфу, епископа Дамасского Ананию, святых Козьму и Демьяна, пророка Наума, Василия Кессарийского и мученика Трифона, представляют собой маленькие "портреты" святых, помещенные перед их житиями. По своему положению в рукописи, по комментирующей, вторичной своей роли они сходны с клеймами икон. Назначение тех и других - занимательное, а не духовное, литературно-"портретное", а не углубленно-созерцательное.
По роли, которую эти миниатюры играют в композиции листа, они также имеют много общего с клеймами икон, хотя и расположены не по краям листа, а среди текста. Место их второстепенно. Первоначально восприятие тех и других сводится к осознанию их декоративной роли в общем построении как иконы, так и рукописной страницы. Листы Погодинского пролога, очень большие, тяжеловесные, богатые разнообразным декором, переполненные текстом, пестрыми заголовками и небольшими "портретами", имеют определенный образ, характерный для новгородской культуры. В композициях листов этой рукописи все неотделанно и неизысканно, но зато величественно и красочно. Недостаток профессиональности искупается доступностью и искренностью. И уже после восприятия листа в целом начинается осознание расположенных на нем небольших миниатюр, подобно тому как лишь после проникновения во внутренний и художественный смысл всей иконы начинается разглядывание ее клейм. По сравнению с выходными миниатюрами, заполняющими весь лист, исполнение этих миниатюрок в тексте такое же грубоватое и непосредственное, такое же второстепенное, как письмо клейм большей части житийных икон по сравнению с их средником.
Живопись миниатюр Погодинского пролога очень проста и свободна. В ней очевидно то же наличие фресковых приемов и то же близкое стилю Феофана Грека экспрессивное живописное начало, отчасти совпавшее в Новгороде с местной художественной традицией. Миниатюры эти неискусны, в них много случайного по сравнению с точной определенностью и феофановского художественного строя, и той русской живописной системы, которая типична для фресок Волотова или миниатюр Псалтири Грозного. Эти миниатюры и по характерным типам, и по своевольной, энергичной и небрежной манере письма, в которой много эскизного, ближе всего именно местной самобытной традиции. Однако некоторые особенности их манеры имеют сходство со стилем Феофана Грека и круга следующих ему новгородских фрескистов. Подобно последним, мастер этих миниатюр освещает лица резкими, неожиданными белильными бликами, кладет их внезапно и асимметрично, подчеркивая смысловую и художественную значительность. Мастер бросает эти белильные движки по ровному светло-коричневому тельному слою, не имеющему моделировки. Безликость и нейтральность этого слоя не нарушена ничем, ни румянами, ни тенями. Ничто не выделяется в письме, кроме вспышек белильных движек, символизирующих свет. Плоть существует только благодаря свету, в ней главенствует не материальность, а озаренность, сама же она передана скупо и условно. Белильные света, блики имеют в этом письме гиперболизированное значение. Именно они решают все - лепят объем, определяют материю и ее форму, создают внутреннюю настроенность. Столь же резко освещены и одежды. Они прописаны широкими пробелами, отнюдь не всегда имеющими стандартную, обязательную для пробелов форму и часто уподобленными вспышкам.
Все это, особенно приемы исполнения лиц, - принципы письма новгородских фресок Феофана Грека. В некоторых изображениях Погодинского пролога (Козьма и Демьян) этот феофановский прием перенят буквально, огрублен, и применение его имеет чисто внешний, подражательный характер. Безусловно, он не осознан здесь в своей внутренней, религиозно-философской сути, восходящей к учению исихастов о свете. Однако отголоски этого богословского и живописного направления, принесенного Феофаном в далекий Новгород, очевидны в русской среде.
То же художественное течение одновременно существовало и в Москве. Однако московские миниатюры этого типа менее суровы и мрачны. Им свойственна большая мягкость в истолковании образа, большая разветвленность и слаженность самой живописной ткани. Но главное в их письме - та же, что в новгородских миниатюрах, эмоциональность, динамика живописных средств. Здесь есть внутреннее волнение, отход от незыблемых норм и живописная свобода, граничащая с индивидуальным экспериментом.
Московская рукопись с лучшими миниатюрами этой группы - Рогожское евангелие, конец XIV - начало XV в. (ГБЛ, Рогож. 136). Однако специфичность этого стиля с наибольшей силой выразилась не в этой рукописи, а в миниатюре Евангелия Чудова монастыря, конец XIV в. (ГИМ, Чуд. 2). Миниатюры же Рогожского евангелия обладают большей упорядоченностью, соразмерностью элементов письма, большим спокойствием всего художественного строя.
На миниатюре из Чудовского евангелия представлены четыре евангелиста, все на одном листе. Композиция эта не характерна для миниатюр, но встречается в маленьких иконках типа "четырехчастной", создававшихся в Москве в конце XIV в. Впечатление сходства усиливается из-за обводки всего листа по краям двумя цветными рамками, напоминающими лузгу икон.
Письмо чудовской миниатюры - быстрое, торопливое, взволнованное. В ней как бы все подвижно - и фигуры, и сами живописные средства. Композиции перегружены архитектурными кулисами, помещенными в самых разнообразных ракурсах. Пространство расширяется, предполагает разные точки зрения, приближается к многоплановому. И оно само, и материальный, предметный мир воспринимаются с разных сторон и позиций; чувствуется интерес и причастность к ним мастера, его стремление зафиксировать многообразие и текучесть окружающего. Однако подвижность мастер понимает не только как внешнюю зрительную изменчивость материальных форм. Он все подчиняет внутренней озаренности, все как бы одушевляется - предметы и сама красочная ткань с ее легкостью и словно внезапной освещенностью. Лица евангелистов написаны свободно. Они выполнены краской, сочной и густой, положенной живописными пятнами. Мастер не следует определенной многоступенчатой системе наложения красок, он смешивает их, сталкивает неожиданно, часто - контрастно, сливает зеленые притенения и красные пятна, добивается пластической округлости форм. Эту текучую красочную поверхность он освещает белильными движками, столь же "стихийными" и быстрыми, как и вся его красочная фактура, столь же резкими и неожиданными, как в новгородской школе. Он избирает совсем особую систему высветлений для одежд, заменяя привычные широкие пробела струящимися белыми линиями, тоненькими, короткими, похожими на мгновенные отблески света. Такие же разбегающиеся штрихи-света озаряют не только фигуры, но и предметы обстановки и все пространство. Мастер использует многообразие различных перспектив, сопоставляет их, совершенно не связывая друг с другом. Он словно бросает книги на столы и так поспешно, что кажется, будто они могут с них упасть. В раскрытых книгах евангелистов он изображает обычный в них текст торопливой, неразборчивой скорописью, почти без букв, а лишь одними условными росчерками - случай в древнерусской живописи редкий. Все это делает почерк художника экспансивным и убеждающим, хотя и недостаточно точным.
Сама спешность и неотработанность письма передает многообразие и прерывистость ритмов жизни. Подвижный характер этого письма соответствует русской художественной эпохе позднего XIV в., с ее интересом к богословским спорам, к постижению внутренней сути догмы, с ее более чем когда-либо на Руси индивидуальным осознанием церковного предания и церковного искусства. В искусстве этого мастера есть немало общего с внутренними и даже внешними основами живописи Феофана Грека. Однако помимо упрощения и огрубления есть и некоторое принципиальное отличие от феофановского стиля. Феофановские приемы сознательно найдены и богословски осмыслены, в них нет ничего случайного, никаких отступлений от основного их значения. Манера московского миниатюриста при всей очевидной причастности его к той же духовной и художественной среде, при всей зависимости от определенного стилистического направления, вероятно начатого на Руси Феофаном Греком, представляет собой частное, как бы внутренне уменьшенное претворение стиля Феофана Грека, отсвет лишь одной стороны его искусства. Кроме того, чудовскую миниатюру отличает от произведений Феофана Грека и круга близких ему мастеров в Новгороде специфический отпечаток московского образного и живописного строя. Это заметно в большей "мягкости" всей художественной системы, в добродушии лиц, в светлой, легкой красочной гамме с обилием голубых, золотисто-охристых и прозрачных лиловых тонов, во множестве частных деталей, сходных с аналогичными деталями ряда московских миниатюр и икон того лее времени. При всей близости феофановской традиции, при всей стремительности письма, в миниатюрах Чудовского евангелия нет ничего от феофановской или вообще новгородской напряженности. Вместо нее в образах очевиден оттенок чувствительности, налет лирической сентиментальности. Внешняя бурная подвижность сочетается в них с внутренней просветленностью, с более тихим и проникновенным звучанием. По еще скрытой, но все же ощущаемой лиричности их чувствуется, что они современны живописи Андрея Рублева. Это скрещение феофановского направления с совсем противоположной ему рублевской традицией - характерная черта ряда московских произведений, в том числе и миниатюр конца XIV - начала XV в.
Кроме этого широкого круга миниатюр, близких к школе Феофана Грека, есть современные им лицевые рукописи, непричастные к ней, вызывающие совсем иные художественные ассоциации. Некоторые из них связаны с греческой художественной традицией, но отнюдь не феофановской. Контакты Руси с византийской культурой были во второй половине XIV в. достаточно широки. Известны иконы, привозившиеся в этот период на Русь из Константинополя, переводы, Делавшиеся с греческих рукописей, имена ряда греческих мастеров, работавших на Руси. Распространенные в русской среде греческие живописные образцы были, видимо, разнообразны, ибо русские иконы и миниатюры, восходящие к греческим традициям, весьма различны по своему образному и стилистическому строю. Некоторые из миниатюр этого круга повторяют старые, еще комниновские византийские образцы, другие следуют современным им византийским произведениям позднего XIV в.
Первые из них - иллюстрации к Псалтири 1397 г. (ГПБ, ОЛДП, F. 6) (см. илл.), написанной дьяком Спиридонием в Киеве и украшенной, по всей вероятности, в Москве*. Миниатюры мелкие, ювелирные, свободно разбросанные на полях, точно иллюстрирующие определенные места текста, по самому типу своему чрезвычайно близки византийским миниатюрам последней трети XI в. Мастер, украшавший русскую Псалтирь, усвоил специфичность искусства малых форм, оформительский такт, художественный принцип комниновских столичных миниатюр, с их подчиненностью тексту и соответствием интимному характеру чтения.
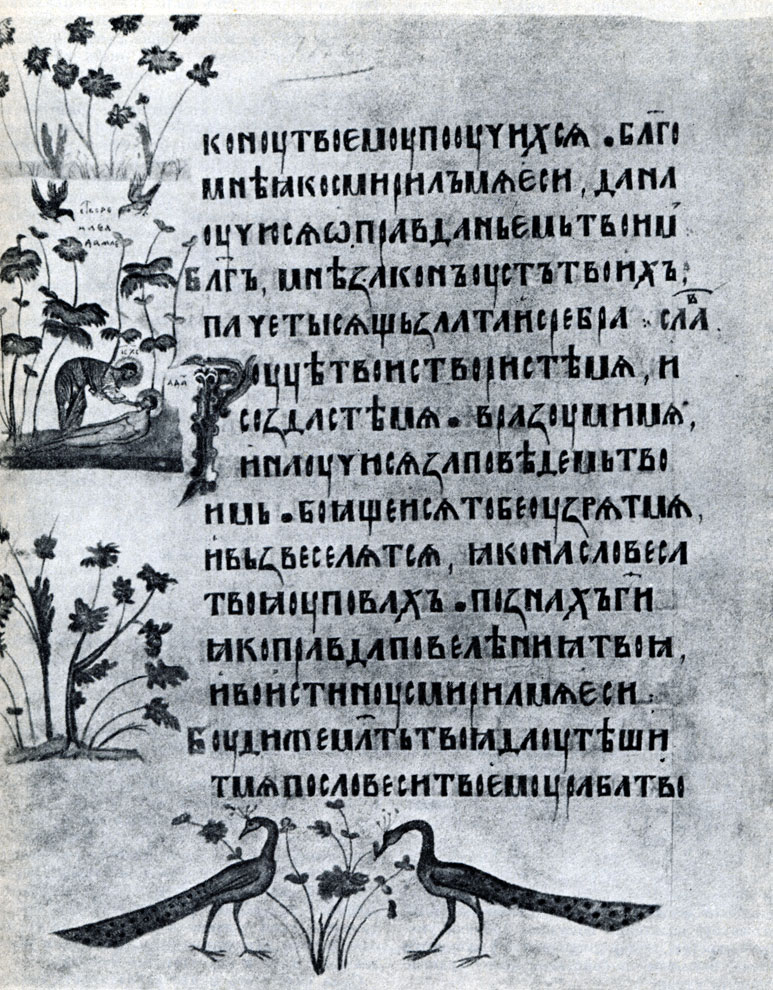
Создание Адама. Киевская псалтирь (Псалтирь Спиридония). 1397 г. ГПБ, ОЛДП, F. 6, л. 171 об
* (Амфилохий, архим. О миниатюрах в псалтирях. - "Чтения в Обществе любителей духовного просвещения", 1880, март. Приложения, с. 193-210; "Псалтырь 1397 года, написанная московским дьяконом Спиридонием в Киеве". СПб., 1890; "Пятидесятилетие Румянцевского музея в Москве, 1862-1919 годы". М., 1913; Н. Н. Розов. О генеалогии русских лицевых псалтирей XIV-XVI веков. - "Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств XIV-XVI веков". М., 1970, с. 226-257; он же. Древнерусский миниатюрист за чтением Псалтири. - "Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР", т. XXII. М.-Л., 1966, с. 65-82; Г. И. Вздорнов. Исследование Киевской псалтири. Киевская псалтирь. М., 1978.)
Эти черты не были свойственны русским миниатюрам, всегда имевшим характер самостоятельный, несоотнесенный с рукописью, всегда подражавшим большой живописи. По многим деталям письма иллюстрации этой рукописи настолько похожи на комниновские миниатюры позднего XI в., а по композициям, рисункам своим - на византийские лицевые псалтири этого времени, особенно на Балтиморскую (Walters Art Gallery, MS. suppl. 14), что их можно почти с уверенностью считать списком с какой-либо подобной греческой лицевой Псалтири последней трети XI в. Но в остальном, в понимании образа и в самой живописи, в манере пользоваться краской, в живописном заполнении контуров, сделанных, быть может, по греческим прорисям, мастер совершенно свободен, самостоятелен; он легко отступает от комниновского образца, остается современником Феофана Грека, переосмысливает греческий оригинал в духе русской культуры XIV в. От комниновского протографа, кроме точности контуров и композиционного смысла иллюстраций в целом, он усваивает манеру расчерчивать все одежды золотыми штрихами, частыми, тонкими, делающими фигуры изысканно-декоративными и придающими всему изображению подчеркнуто спиритуалистический характер. От искусства той далекой эпохи перенимает он и цветовую гамму, светлую, нежную и легкую, с переливами изумрудно-зеленых, синих, розовых красок, с излюбленным и в византийских миниатюрах и здесь лиловым тоном, с ювелирной чистотой, драгоценностью и полной нереальностью всей красочной поверхности, мерцающей под золотой сетью. Но многое в письме мастера близко русской живописи конца XIV в. Излюбленный его прием - снова асимметрия, которую мы видели и в ряде русских миниатюр этой эпохи, и во фресках Волотова. Лица маленьких фигурок - живые, очень индивидуальные, напряженные. Выразительность их создана острой асимметричностью рисунка. Красочная лепка лиц - проста и легка. По коричневому тельному тону свободно, бессистемно скользят темно-коричневые тени, подчиняющиеся лишь быстрой, своевольной игре света. Белильные высветления, которые мастер использует отнюдь не всегда, часто обходясь вообще без них, не имеют ничего общего с линейными светами или с резкими экспрессивными движками феофановского типа. Они кладутся живописными пятнами, столь же свободными, как и темно-коричневые тени. Сама красочная фактура - прозрачная, неплотная, совсем не похожая на сложную красочную систему, перенятую миниатюрой из большого искусства. Живописность такого письма иная, не та, что в русских миниатюрах этого времени, - более легкая и артистичная, строящаяся на незаметности и точности красочных сдвигов. Исполнение этих миниатюр виртуозно по мастерству и совершенно индивидуально. Асимметричность и экспрессия ставят их в общую линию развития русской живописи эпохи позднего XIV в. Однако отсутствие в них монументальности, чрезмерной серьезности и внутренней акцентированности, столь свойственных всегда русской живописи, совпадает с традицией комниновской миниатюры. Трудно объяснить такое сходство только тем, что этот цикл миниатюр восходит к греческому образцу. Миниатюры эти вполне индивидуальны. Они созданы мастером очень большого дарования и нерусского склада. Манера его слишком независима от русской художественной традиции в целом, В его почерке много легкого, скользящего, совершенного скорописания, близкого виртуозному хитроумию и художественной игре, не свойственным русскому искусству, всегда более тяжеловесному, и простодушному, и углубленному. Вероятно, автором этих миниатюр был мастер грек, прошедший прекрасную константинопольскую выучку, знавший столичные лицевые манускрипты и, быть может, привезший с собой образцы или даже прориси. Возможность этого подтверждается греческими надписями возле многих миниатюр. Комниновские образцы XI в. мастер переосмыслил под углом зрения человека палеологовской культуры. Общее в стиле его миниатюр с русским искусством конца XIV в., может быть, вызвано тем, что он работал в русской среде и мог воспринять и общую направленность и конкретные особенности русской живописи. Но, возможно, сходство этих миниатюр с произведениями русской школы еще более объясняется тем, что русская живопись этого времени проходила тот же путь, что и византийская культура XIV в., и в основных своих чертах была близка палеологовской. Близость их сказалась гораздо больше во внешних особенностях, обусловленных сходством этапов развития той и другой культуры, чем во внутренней интерпретации образа и конкретных приемах письма.
Миниатюры эти, имеющие сложный генезис стиля, в основном соответствующие палеологовской эпохе, но в ряде черт подражающие комниновским образцам, вероятно нерусские по происхождению, однако созданы в русской среде и адекватны ее вкусам и запросам. Кроме них, в русских лицевых рукописях конца XIV - начала XV в. есть миниатюры чисто русского мастерства, с художественной системой, ориентированной на современный им византийский палеологовский стиль. Отпечаток его заметен в миниатюре с изображением Иоанна Златоуста в Новгородском служебнике 1400 г. (ГИМ, Син. 600). Письмо ее - детализированное и тонкое, особенно в исполнении лика, построенное на сплавленности, нюансированности, со множеством полутонов, с почти неуловимо перетекающими оттенками красочной поверхности, с переливами мельчайших красочных пятен: зелени в тенях, белил в светлых местах, едва заметных румян. Эта сложнейшая живописная ткань, детально проработанная и слаженная, была воспринята русским искусством от палеологовского. Интересно, что в этой новгородской миниатюре нет и следа того схематизма и той неодушевленности, которые становились все более свойственными памятникам византийской культуры палеологовской эпохи. Кажется, что русский мастер использовал наиболее живое из различных течений современного ему позднепалеологовского искусства, в котором, кроме холодного академизма, существовало и более экспрессивное направление, связанное с традициями классического палеологовского ренессанса. Менее вероятно предположение, что новгородский мастер этой миниатюры пользовался каким-то несовременным ему византийским образцом, относящимся к периоду раннего XIV в. Ибо внутренняя углубленность образа его миниатюры, внешне замкнутого и сдержанного, сосредоточенного исключительно на созерцании, адекватна характеру позднепалеологовской культуры с ее интересом к богословским исканиям и исихастской практике.
Столь же очевидная преемственность традиций византийской живописи наблюдается в миниатюре "Спас в силах" в Евангелии, созданном дьяконом Зиновием в конце XIV - начале XV в. в Переславле-Залесском (ГПБ, F. п. 1.21). Миниатюра эта - самая интересная по стилю и наиболее высококачественная по исполнению среди остальных изображений в рукописи (четыре евангелиста). Письмо ее многослойное, технически сложное, с отчетливо осознанными и внешне скрытыми приемами. В нем есть завершенность, гладкость и некоторая сухость. Вместо напряженности духовного начала, которую мы наблюдали в русских миниатюрах XIV в., - сосредоточенность и сдержанность. Открытость эмоционального состояния сменилась холодной замкнутостью, экспрессия - молчанием, индивидуальность интерпретации - общим каноническим смыслом. Всякий личностный момент здесь устранен, а живая, стихийная живописность стала невозможной. В таком образе и в такой системе мышления чисто художественная сторона не представляет самостоятельного интереса, так как это отвлекало бы от главного, помешало бы внутреннему осознанию религиозного образа. Все это соответствует византийской позднепалеологовской культуре, с узаконенностью ее религиозно-философских догматов, и одному из основных направлений византийской живописи второй половины XIV в., с систематичностью и почти академической повторяемостью ее норм.
Письмо миниатюры "Спас в силах" сближается с иконописным. До сих пор миниатюра ориентировалась на фреску и, как и фреска, отличалась более свободными приемами, чем икона. В позднепалеологовской культуре, к которой принадлежит эта миниатюра, определяющей становится икона, ибо именно она, более чем какой-либо другой вид живописи, предназначена для сосредоточенного, молитвенного восприятия, главного момента в исихастской практике. Сама живописная система этой миниатюры многоступенчатая и сложная, однако согласованная. В письме лица коричневый тельный слой сливается с круглящимися, обтекающими форму зелеными тенями, нерезкими, невыделяющимися, но углубляющими объем. В письме этом нет ничего энергичного, ни ярких тонов, ни заметных мазков. Краска не лепит объем, а покрывает его. Поверхность, гладкая и идеальная, не может рассматриваться как художественная ткань, а лишь как оболочка религиозного образа. Она как бы "внечувственна", но не инертна, так как ее озаряет свет - главный фактор богословской и живописной системы палеологовской исихастской эпохи. Однако в нем нет уже ничего внезапного, нет неожиданных резких вспышек, как это часто было в памятниках XIV в.
Света обозначаются ровными спокойными белильными движками, лежащими аккуратными параллельными штрихами. Иногда они расходятся схематичным веером. Этот прием типичен для позднепалеологовских икон. Свет не уничтожает плоть, как в произведениях Феофана Грека, и не является самым главным, воскрешающим ее началом, как в ряде русских миниатюр позднего XIV в. Он лишь ровно освещает, облагораживает ее, но она может существовать и без света. Такое понимание живописной системы весьма близко высказываниям Григория Паламы о свете и плоти. Эта манера письма встречается в русских миниатюрах редко. В основном она свойственна иконописцам позднего XIV в., как византийским и афонским, так и русским, особенно московским, во многом перенявшим навыки позднепалеологовской школы. Внешняя художественная система миниатюры "Спас в силах" следует общему позднепалеологовскому стилю.
Психологический строй образа Спаса, углубленного и самопогруженного, позволяет сопоставлять миниатюру с тем кругом произведений позднепалеологовской культуры, который связан не с константинопольским ее вариантом, быть может, наиболее академическим, а с афонским.
Мастера русских миниатюр второй половины XIV - начала XV в. используют кроме византийских южнославянские образцы. Более того, в отдельных русских рукописях этого времени, как новгородских, так и московских, миниатюры исполнены, по всей вероятности, непосредственно южнославянскими мастерами. Наряду с этим существуют миниатюры русской работы, являющиеся почти точной копией сербских и македонских образцов. В этот период так называемого второго южнославянского влияния русская культура имеет широкие контакты с южнославянским миром, едва ли не более тесные, чем с византийским. В живописи же, в том числе и в миниатюре, преемственность южнославянских традиций существует параллельно с неослабевающим византийским влиянием. Болгарские и сербские воздействия в русской литературе сказываются с конца XIV в. Вместе с ними, в связи с переводом южнославянских текстов и переписыванием рукописей, начинается сильное южнославянское влияние на русскую письменность, на искусство оформления книги, орнамента и самого письма. Раньше же всего южнославянское воздействие сказалось именно в живописи. Первые примеры его прослеживаются по миниатюрам, в изображениях евангелистов Матфея, Марка и Луки в Евангелии ГИМ, Муз. 3651 (см. илл.), созданном в Новгороде в последней трети XIV в.* Евангелисты представлены в редкой иконографической редакции; они изображены как пророки, со свитками в руках.

Евангелист Матфей. Евангелие. Последняя треть XIV в. ГИМ, Муз., № 3651
* (О. С. Попова. Новгородские миниатюры и второе южнославянское влияние. - "Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода". М., 1968, с. 179-200.)
По своему образному и стилистическому характеру эти миниатюры далеки от новгородских. Стройные пропорциональные фигуры евангелистов, склоненные в легких S-образных позах, их психологически напряженные лица нерусского склада, тип их крупных скульптурных голов и лиц с широкими носами, с разметавшимися волосами, с печально-насмешливыми улыбками, придающими им конкретность душевного состояния, их эмоциональность, порывистая, но застывшая, противоречивость их внешнего облика, серьезного и, одновременно, манерного и экзальтированного, - все это не находит параллелей в русском искусстве XIV в. Единственный памятник косвенно сходный с миниатюрами Евангелия из Музейского собрания - роспись Ковалевской церкви в Новгороде, исполненная сербами и их русскими учениками. Стилю сербской живописи XIV в. близка и манера письма этих миниатюр. Их мастер владеет живописной трактовкой предметов, а также красочной лепкой форм, построением объемов с помощью цвета. В его письме, особенно в письме лиц, нет ни одного участка, где был бы положен ровный, чистый цвет. Зеленый санкирь, красные румяна, яркие белильные света и жидкие белильные полутона, выступающие из-за энергичных движек как постепенно гаснущие отсветы от них, втекают друг в друга, соприкасаются, составляют сложную переливающуюся красочную поверхность. Края их смешиваются, создавая новые полутона. Краска ложится на пергамен не ровной гладью, а мазками. Подобного переплетения мелких и даже мельчайших красочных мазков в древнерусской живописи никогда не бывало. Руку иноземного мастера выдает и система наложения красок в этих миниатюрах, многоступенчатая, венчающаяся легким, тончайшим, прозрачным слоем белил, благодаря которому в живописи нет тусклых мест. Об особенностях живописной школы Сербии напоминает характер формы, прежде всего конструктивная, энергичная с контрастным строением структура лица, с глубокими впадинами и сильно выступающими плоскостями, переданными не светом, а цветовыми пятнами, интенсивность тона которых точно соответствует степени освещенности. Сербской живописи близка зеленая карнация этих миниатюр, подчеркивание контуров красными штрихами (особенно на руках), нимбы, изображенные в ракурсах, свитки евангелистов, подвешенные на тонких нитях к рамам. С сербской живописью сближает миниатюры и совершенно особенная, русскому искусству не свойственная черта стиля - сочетание экспрессивности эмоционального состояния с его неожиданной застыл остью, живописности фактуры с сухостью письма и жесткостью тонов. Лишь немногое в стиле этих миниатюр не согласуется с сербским искусством. Краски их более резки, сочетания тонов контрастнее, колорит более ярок и звучен, чем у сербских мастеров. В некоторых самых общих чертах он сходен с колоритом новгородской живописи - в цветовой насыщенности красок, в открытости и тональной несвязанности цвета. Автор этих миниатюр, очевидно, знал новгородские иконы и отчасти перенял их яркую декоративную цветовую гамму. Однако он заимствовал лишь общий ее принцип. Каждый же из тонов его обладает совсем не новгородской холодной чеканностью оттенка. Колорит его миниатюр по-новгородски ярок, но изысканность и эффектность их цвета мало похожи на простодушную, радостную декоративность новгородской живописи. Эти миниатюры, по всей вероятности, были выполнены сербским мастером, работавшим в Новгороде в последней трети XIV в., несколько раньше создания Ковалевских фресок 1380 г. и значительно раньше второй полосы южнославянского влияния в русской культуре.
Все остальные русские лицевые рукописи, лежащие в сфере второго южнославянского влияния, относятся к концу XIV в. В них есть миниатюры, исполненные, возможно, непосредственно сербским мастером - изображения евангелистов Марка и Луки в Евангелии, вероятно московского происхождения (МГУ, 2, ВД 42), Рядом с евангелистами помещен ангел - олицетворение Софии Премудрости божией. Пространственные композиции миниатюр, театрализованные, манерные позы евангелистов и ангела, сложная многоплановая архитектура, сами типы евангелистов близки изображениям в сербской живописи, особенно во фресках Раваницы и Манассии. Письмо миниатюр, технически сложное, многослойное, с зеленым санкирем и обилием зеленых теней, с прозрачным лессировочным слоем по всей поверхности, с большой определенностью как всех форм, так и структурности пробелов, с детальной проработкой красочной фактуры, продуманной цветовой соотнесенностью, привязанностью к лиловым и темно-голубым тонам, с выделением пластических архитектурных масс цветовыми тоновыми переходами, а пространственной глубины архитектуры - оттенками, имеет мало общего с традициями русской школы и очень похоже на сербское. От русской московской живописи в миниатюру привнесена только мажорность красочной гаммы, интонацию которой определяет сочетание голубца с яркой киноварью. Но общая нерусская направленность стиля и близость его сербскому настолько велики, что миниатюры эти можно считать сербскими лишь с некоторыми поправками на то, что они были созданы в русской среде и поэтому могли отразить некоторые навыки русской живописной школы.
Большая же часть миниатюр, возникших в сфере южнославянского влияния, является работами русских мастеров, использовавших южнославянские образцы. Иногда это прямые подражания сербским созданиям - например, "щукинские листки" конца XIV в. с изображениями евангелистов Марка и Луки (ГИМ, Щук. 10а), вырезанные из какой-то новгородской рукописи и представляющие собой непосредственную копию с сербских, по всей вероятности, миниатюр Евангелия из Музейского собрания. Иногда это русские миниатюры, точный южнославянский протограф которых установить трудно. Однако по иконографии и стилю очевидно следование русских мастеров южнославянским оригиналам. К этому кругу относится миниатюра провинциальной работы с изображением Василия Кессарийского в "Постнических словах Василия Кессарийского" конца XIV - начала XV в.* (ГПБ, F.п. 1, 40), тяжеловесного, дисгармоничного письма, имеющего мало общего с русскими традициями, частично сходного с живописью провинциальной Македонии позднего XIV в. К этому же кругу принадлежат, хотя лишь отчасти, четыре прекрасные миниатюры с изображениями евангелистов в Евангелии 1401 г. (ГБЛ, Рум., 118) (еле. илл.), созданном, судя по всему, в Москве. Генезис их стиля особенно сложен. Кроме заметной близости сербской манере позднего XIV и раннего XV в., в них очевидно соприкосновение и с византийским палеологовским художественным направлением, распространенным тогда в Москве, и некоторые черты обрусения. Письмо их очень индивидуально, однако в истоках своих представляет собой сплав различных художественных традиций, существовавших в Москве на рубеже XIV-XV вв., являвшихся выразителями общего позднепалеологовского художественного движения. Не случайно в некоторых московских миниатюрах этого времени, весьма разных по своему образному и стилистическому строю, использованы одинаковые композиции и близкий набор архитектурных форм, например в данном Евангелии 1401 г. и Евангелии Хитрово. Сама возможность такого явления, даже вероятность использования прорисей говорит о немалом внутреннем единстве внешне разностильных художественных направлений, в которых нашли выражение общие художественные искания эпохи. Только благодаря этому и могло происходить такое сосуществование и переплетение стилей, какое было в Москве на рубеже XIV-XV вв. Миниатюры Евангелия 1401 г. - по происхождению стиля одни из наиболее сложных произведений, созданных в эту эпоху.
* (О. Popova. Les miniatures russes..., pl. 58.)

Евангелист Марк. Евангелие. 1401 г. ГБЛ, Рум., № 118
Кроме контактов с византийским и южнославянским искусством, в русских миниатюрах раннего XV в. прослеживаются связи с живописью Молдаво-Влахии. Миниатюры с изображениями апостолов в рукописном Апостоле из Гос. Русского музея (ГРМ, ДР/Гр. 20) (см. илл.), созданном в Москве в первой трети XV в., по композициям и сложным архитектурным фонам близки миниатюрам молдавского Евангелия 1429 г. из Бодлеанской библиотеки (Col. Can., gr. 122). С миниатюрами же Апостола по ряду конкретных приемов письма сходны миниатюры Евангелия начала XV в. из ризницы Троице-Сергиевой лавры (ГБЛ, М., 8655) (см. илл.) и некоторые миниатюры Евангелия (около 1400 г.) из Переславля-Залесского (изображения Матфея, Марка и Луки)*. Все они отнюдь не являются копиями с одного оригинала или, тем более, последовательными списками друг с друга. Их сближает лишь общая направленность стиля, существовавшего, по-видимому, в Москве в раннем XV в. Миниатюры Евангелия из Переславля-Залесского - наименее интересные из них. В письме их заметен лишь отголосок этой манеры и притом только в технических приемах исполнения. Изображения в двух других рукописях (Апостол из ГРМ и Евангелие из ризницы Троице-Сергиевой лавры) превосходны по мастерству и индивидуальны по осмыслению. Они совсем не похожи по своему конкретному художественному почерку. Сходство их - в истоках стиля, в самом общем его характере, каллиграфическом, рафинированном, чуть холодном, знаменующем собой завершение эпохи.

Апостол Павел. Деяния в послания Апостолов. Первая треть XV в. ГРМ, ДР/Гр 20

Евангелист Иоанн и Прохор. Евангелие. Начало XV в. ГБЛ, № 8655
* (Г. И. Вздорнов. Искусство книги в древней Руси..., с. 116-118.)
Происхождение этого стиля сложно. Чисто византийский позднепалеологовский художественный строй образа и письма сочетается в нем с манерой лирической и проникновенной, близкой позднесербскому искусству, моравской школе. Этот моравский стиль по своей изысканности, утонченности стоит уже на грани возможной для византийской образной системы меры, за пределами которой внеличный византийский художественный строй приобрел бы немыслимую для него интимность. Вряд ли этот стиль был только местным сербским явлением. Скорее всего, он был распространен и в византийской константинопольской живописи, тем более что истоки его улавливаются уже в росписях Кахрие Джами. Возможно, лишь случайно не сохранились столичные произведения конца XIV - начала XV в. такого эмоционального и стилистического типа. В раннем XV в. после завоевания Сербии турками стиль моравской школы перешел в искусство Молдаво-Влахии. Из константинопольских, сербских или молдавских источников получила его Москва? - Сказать трудно. Но несомненным кажется знакомство с ним московских мастеров, а также и то, что он сыграл немалую роль в сложении московского, вернее, общерусского стиля XV в. Не случайно уже образы Андрея Рублева имеют некоторое сходство с образами фресок Каленича, если и не конкретное, то психологическое и общестилистическое. Это не умаляет значения старых владимиро-суздальских традиций в сложении стиля Рублева и русской живописи XV в., а указывает лишь на разнородность его истоков. Старые русские традиции сочетались в нем с палеологовскими и моравскими, быть может, в молдаво-влахийском их варианте. Подобное скрещение различных живописных направлений вполне могло осуществиться в Москве, художественная жизнь которой в позднем XIV в. была пестрой и разноликой. Процесс этот частично освещают миниатюры московских рукописей позднего XIV - раннего XV в. Взаимопроникновение стилей очевидно и в миниатюрах Апостола из Гос. Русского музея, и в Евангелии из ризницы Троице-Сергиевой лавры. В первых преобладает позднепалеологовский византийский элемент, во вторых - художественное начало, связанное с моравской культурой. Поэтому они и не похожи по своему конкретному художественному облику.
Миниатюры с изображениями четырех евангелистов в Евангелии из ризницы Троице-Сергиевой лавры* исполнены со сдержанным благородством, с приглушенной камерной интонацией. Они лишены каких-либо внешних эффектов и упрощений, рассчитанных на массовый уровень. Очарование их - в особой художественной манере, вдумчивой и проникновенной, построенной на полутонах. Но при этом в них совсем нет той успокоенности и гармонии, которые станут неотъемлемой чертой русской живописи XV в. По своему тревожному внутреннему смыслу, по кристаллической построенности формы, по характерному, напряженному письму они современны эпохе конца XIV - начала XV в., полной брожения, исканий, разноголосицы. Художественный строй их - сдержанный и тихий, но с оттенком скрытой нервности и сдерживаемой экзальтации. Манера письма более индивидуальна, чем в миниатюрах какой-либо другой русской рукописи этой эпохи. По своему почерку их письмо не имеет сколько-нибудь точных параллелей в русской живописи. В нем есть особый отпечаток аристократичности и вычурности, утонченности и манерности. Главное в их стиле - рисунок, линия, штрих. Драпировки одежд дробятся на множество мелких беспокойных складок, не прописанных пробелами, как обычно в древнерусской живописи, а прорисованных тончайшими острыми линиями, то длинными, то короткими, ломкими. И лишь редко, в отдельных местах, мастер использует обычные пробела. Для освещения одежд, для передачи пластической формы он употребляет белила, однако пишет ими не густые, живописные складки-пробела, а накладывает поверх красочной поверхности в светлых местах тончайший, прозрачный, почти лессировочный белильный слой. Эти дробные, многочисленные, но не утяжеленные материальностью драпировки складываются в изысканный, причудливый строй, по рисунку своему не похожий на систему драпировок в русской живописи этого времени. Подвижность его как бы вызвана внутренней озаренностью. Рисунок иногда приобретает нервную остроту, разбивающую плавное единство округлого контура, нарушающую общую размеренную построенность живописи. Рисунок, до сих пор в русской живописи призванный ограничить, замкнуть живописную стихию и, главное, образ в четкие нормы канона, получает в этих миниатюрах необычную самостоятельность. В таком выделении отдельных граней художественной структуры ощущается отход от идеальной меры. В подчеркиваний, одушевлении линейной системы скрывается интерес к чисто художественному началу, граничащий с личным авторским вкусом, интерес слишком индивидуальный, нарушающий приоритет духовного, не согласный с идеальностью создания и восприятия религиозного образа.
* (О. С. Попова. Миниатюры московского Евангелия начала XV в. - "Памятники культуры, новые открытия. Ежегодник, 1977". М., 1977, с. 206-214.)
Колорит этих миниатюр - светлый, многокрасочный, но и приглушенный, тональный, лишенный обычной для русских миниатюр насыщенности и цветовой открытости. В письме одежд мастер использует легкие, часто прозрачные, неяркие тона, не создающие внешних эффектов. В живописи его есть изысканная соотнесенность оттенков. Он любит цветовые рефлексы, следит за едва уловимым просвечиванием тона нижних одежд через верхний красочный слой, накладывает цветовые тени, часто моделирующие форму вместо обычных пробелов. Голубой прозрачный цвет освещает зеленые одежды, и это труднейшее красочное сочетание виртуозно ему удается. Но этому цветовому решению далеко еще до дымчатой мягкости русской живописи XV в. Тона, даже оттенки их - холодные, отчетливые, прекрасно выявляющие форму. Здесь жив еще принцип архитектоничного византийского искусства, а отнюдь не русского искусства XV в., с его лирической тональной смягченностыо. Однако мастер этих миниатюр использует цвет совсем особенно, не в плане византийской или русской живописи XIV в., и достигает большого благородства цветового согласия. Он делает одинаковой интенсивность тонов, ослабляет их яркость как бы под действием внутренней освещенности. Самые контрастные и несочетаемые из них, приглушаясь, сближаются. Этому служит и равномерность силы их голоса, и многочисленные цветовые рефлексы, и нейтральность охристого тона архитектурных фонов и всей внешней обстановки. Мастерство и свобода в пользовании цветом сочетаются здесь с рафинированным вкусом. С уверенностью и техническим блеском мастер пользуется оригинальными приемами: накладывает на зеленые одежды прозрачные синие тени, употребляет необычный бледно-лиловый цвет (пол в композиции с Марком) утончая византийскую лиловую гамму. Он обрисовывает горки в миниатюре с Иоанном острой зыбкой, дрожащей линией и лишь слегка, в своевольно выбранных местах покрывает их уступы прозрачной розовой и голубой красками, а всю остальную светло-желтую их поверхность - легчайшими, едва видными белыми лессировками. В такой раскраске чувствуется прихотливость.
Мастер применяет особые приемы для тельного письма, совсем непохожие на те, которые мы встречали до сих пор в древнерусских миниатюрах. Зеленоватый санкирь он резко отделяет от основного коричневого тона, покрывающего большую часть поверхности лиц, рук, ног. Этот коричневый тельный слой - густой, плотный, почти рельефный. Контрастность санкиря и этого коричневого слоя, заменяющего постепенное вохрение, столь велика, что она одна уже создает отчетливую пластичность форм. Для выявления объема здесь не нужны ни белильные света, ни постепенные плави, ни соприкосновения, переплетения оттенков многокрасочной поверхности. В такой конструктивности формы есть немало общего с четкой, крепкой, всегда архитектонической построенностью лиц в сербском искусстве. Но в миниатюрах этой рукописи отчетливая пластика строится только контрастным выделением и сопоставлением масс, вызывающим иллюзию рельефа. Краски, их цветовые соотношения в этом почти не участвуют. Вся красочная поверхность состоит из коричневых и бледно-зеленых оттенков, без каких-либо ярких, звучных вспышек. Тельное письмо во всех миниатюрах - тоновое, полное цветовой сдержанности и согласия. При всей архитектоничности его формы оно создано лишь немногими скромными, тонально едиными оттенками. Своей цветовой слаженностью оно близко мягкой, плавной цветовой гармонии московской живописи XV в.
Стиль этих миниатюр сложен по своему происхождению. В основе своей нерусский, он имеет, однако, много точек соприкосновения с русской школой живописи XV в. Сдержанность художественного строя этих миниатюр, отсутствие динамического начала, столь свойственного русской живописи позднего XIV в., аристократичность, утонченность их письма, граничащая с манерностью, отпечаток светской элегантности сближает художественную манеру этих миниатюр со стилем моравской школы и ранней живописи Молдаво-Влахии. Близки по внешнему облику персонажи, с их тонкими одухотворенными лицами. Близка и манера исполнения лиц, с отчетливо пластическим, но тонально мягким письмом. Необычна индивидуальность художественного почерка мастера: ему присущи оттенок изысканного благородства и чисто внутренняя, сдерживаемая напряженность, пронизывающая весь живописный строй скрытой импульсивностью, основанная лишь на нюансах и не имеющая напористой, обычной для русского искусства внешней выраженности. Этот стиль, характерный и острый, хотя и строящийся на полутонах, вероятно был занесен в Москву заезжими южнославянскими или молдавскими мастерами или был воспринят через привезенные лицевые рукописи. Быть может, наши миниатюры - список с каких-либо таких образцов, сделанный мастером очень высокого дарования, обладающим большой способностью проникать в смысл иноземного искусства. Но некоторые элементы этого стиля - внутреннее согласие всей его структуры, приглушенность красочной гаммы, тональное единство в письме лиц, смягченность обликов и тяготение к гармонии - имеют много общего со складывающимся московским, а шире - национальным русским живописным стилем.
Этот русский стиль получил выражение в миниатюрах рубежа XIV-XV вв. в гораздо меньшей степени, чем в иконах. Зато миниатюры шире, чем иконы, отразили разнообразие направлений и художественных связей, существовавших в это время в русском искусстве. В миниатюрах этой эпохи проявились лишь отдельные черты русского национального стиля, возобладавшего уже в XV в. Во всех рассмотренных случаях они не составляют какого-либо единства и существуют разрозненно.
Из всех русских лицевых рукописей этого периода яснее всего эти черты очевидны в миниатюрах московского Евангелия Хитрово конца XIV - начала XV в. (ГБЛ, М., 8657) (см. илл.)*, хотя и здесь они не определяют собой стиль, а существуют рядом с византийской системой письма. Однако в сравнении с другими русскими миниатюрами того времени в миниатюрах этого Евангелия уже так много специфических особенностей русского образного и художественного строя, что среди всех изображений в лицевых рукописях именно они, и только они, позволяют с определенностью говорить о сложении русского стиля XV в. Поэтому, а также благодаря исключительному художественному качеству этих миниатюр, они заняли центральное положение в истории русской миниатюры и даже всей русской живописи XIV-XV вв. Нередко, увлекаясь русизмами стиля и исключительной проникновенностью и красотой письма, их приписывают Андрею Рублеву, лучшему и самому национальному мастеру эпохи. При этом византийское начало, лежащее в основе манеры и преобладающее в художественном строе, отодвигают на задний план или считают полностью растворившимся в русском стиле.
* ("О древнерусской книге (к выставке "Древнерусская книга" Сергиевского историко-художественного музея)". Сергиев, 1921; D. Ainalov. Trois manuscrits du XIV-e siecle a l'exposition de l'ancienne Laure de la Trinite a Sergiev. - "L'art byzantin chez les Slaves". Deuxieme recueil dedie a la memoire de Theodore Ouspenskiy. Paris, 1932, pp. 244-252; H. П. Лихачев. Материалы для истории русского иконописания, т. I. СПб., 1906, табл. CCCXIX-СССХХ; В. Н. Лазарев. Живопись и скульптура великокняжеской Москвы. - "История русского искусства", т. III. M., 1955, с. 88-94; В. Н. Лазарев. Андрей Рублев и его школа. М., 1966.)

Евангелист Марк. Евангелие Хитрово. Начало XV в. ГБЛ. М., 8657
На восьми миниатюрах Евангелия Хитрово изображены четыре евангелиста и четыре их символа - орел, ангел, лев и телец. Нарядные, красочные, наделенные редким даже для иконописи великолепием, миниатюры эти поражают обилием света, сиянием красок, лучистостью колорита, переливами его голубых, лиловых и золотых оттенков, озаренностью всего своего внешнего облика. Эта общая для них интонация соответствует подъему и жизнеспособности русского искусства на рубеже XIV-XV вв. и по самому существу своему отличается от сдержанной, сумрачной настроенности современного ему византийского искусства. Но вместе с тем в этих миниатюрах есть строгость, холодноватая ученость и идеальная, отвлеченная соразмерность. Черты эти, органичные для византийской палеологовской живописной системы, весьма далеки от русского национального стиля XV в., полного лиризма и задушевности, смягчающих византийский классицизм. В самой манере письма этих миниатюр, точно так же, как и в художественном осмыслении образов, сочетаются черты византийского и русского стиля. Византийские особенности явно преобладают в двух первых миниатюрах с изображениями Иоанна с Прохором и ангела, выполненными, вероятно, греческим мастером. Письмо их отличается почти холодной внешней отточенностью. Главное в нем - полная внешняя выраженность, а не внутренне углубленная лирическая недосказанность, ученое освоение византийского стиля, а не интуитивное, чисто художественное перевоплощение его, каллиграфическая точность, а не обобщенная мягкость форм. И в письме одежд, ив лепке лиц ощутима типично палеологовская художественная система, четкая, пластическая, со стилизованным, слишком неличным и незаинтересованным представлением об идеальной гармонии, с осознанием классической правильности мастерства. Лица на этих двух миниатюрах написаны сосредоточенно, спокойно, без внутренней импульсивности, столь свойственной образам русской живописи XIV в., но и без проникновенной мягкой задушевности, как в русском искусстве XV в. По сравнению с образами других миниатюр рукописи эти лица сдержаннее и благороднее (особенно лицо Иоанна), но строже и суше. Характер письма ликов Иоанна, Прохора и ангела обладает почти полным сходством, не только внешним, но и принципиальным. Создавший их мастер владеет чисто пластической передачей формы, строящейся на сплавленности, перетекании тонов, обходящейся без каких-либо контрастов, яркости; он применяет только нюансы коричневого тона и легчайшие зеленые тени. В такой лепке лиц есть почти скульптурное чувство объема. С такой же чистотой и точностью византийского стиля написаны и одежды Иоанна, Прохора и ангела. Исполнение их отличается строгостью мастерства, четким, идеально правильным рисунком. Мастер тщательно прорабатывает все драпировки, сообщая им конструктивную логику. Он предпочитает холодную, изысканную цветовую гамму, чаще всего выбирает излюбленные в византийском искусстве сочетания голубых и лиловых тонов, согласует их легко, свободно, с подлинным артистизмом, моделируя лиловые плащи голубыми отсветами и темно-лиловыми тенями. Он достигает тончайших переливов оттенков. Но в гамме его нет никакой сплавленности, мягкости и теплоты, свойственных русской живописи XV в. Все тона - холодные и определенные, соотношения их отличаются аристократичностью, элегантностью. Как и структура формы, цветовая гармония этих миниатюр создана в чисто византийском художественном ключе, строго и мастеровито.
Этот стиль, необычайно близкий палеологовской живописи, достигает в миниатюрах Евангелия Хитрово полного раскрытия своих возможностей.
К палеологовской живописи восходят и формы архитектурных фонов этих миниатюр. В архитектурных композициях заметно стремление к организации пространства. Здания и их детали обладают соразмерностью и уравновешенностью. Пропорции их наделены гармонией. В комбинациях архитектурных форм очевидно стремление мастера расположить их по единообразным законам перспективы. Все строения обладают объемом, массой и пространственностью. По замыслу мастера, архитектурные фоны должны превратиться из декоративных кулис, из отвлеченного обрамления композиции в некое пространственное целое, если и не иллюзорно-реальное, то исполненное напряженности и энергии. Но эта осмысленность, "утилитарность" архитектурных фонов - лишь внешние. Детали их выверены только по отношению друг к другу, но диспропорциональны по отношению ко всей композиции, к внутреннему действию, происходящему в ней, ко всему внешнему миру. Архитектура эта иллюзорна, конкретна в деталях, но в сущности своей глубоко трансцендентна. "Игра" в пластическую оформленность масс, в законы архитектурной композиции предпочитается передаче каких-либо реалий. Все это близко принципам построения архитектурных фонов в мозаиках и фресках Кахрие Джами и вновь переносит нас в византийский палеологовский мир.
С особенностями греческого художественного мышления связана также повышенная живописность письма лиц Марка и Луки и горок в миниатюре с Иоанном, манера свободная, индивидуальная, нарушающая стандартные приемы письма. Лики этих евангелистов буквально слеплены краской, густой и текучей, не подчиняющейся законам многослойного постепенного письма. Розовые, красные, зеленые и белые мазки, положенные по нижнему слою охр, переплетаются между собой. Все цвета открытые, красочные слои лежат сочным покровом, сочетания их смелы и убедительны. Столь же свободно написан пейзаж в миниатюре с Иоанном. Уступы горок покрыты светлыми яркими красками со множеством оттенков, краски лежат живописными пятнами, похожими на импровизированные мазки - голубые, розовые, лиловые, желтые, пепельно-серые. Нам не известен конкретный греческий оригинал, к которому восходит это своеобразное смелое письмо. В свободе его и независимости от узкой традиции есть немало общего с характером искусства Феофана Грека. Однако в целом его связь с манерой Феофана - лишь опосредованная. В живописи миниатюр Евангелия Хитрово есть лишь одна конкретная деталь, напоминающая о почерке Феофана Грека. Это белильные света, озаряющие лица, руки, даже одежды, эскизные и внезапные, однако, по-феофановски определенные и точные, лежащие параллельными штрихами.
Многие особенности стиля этих миниатюр аналогичны особенностям греческой палеологовской живописной системы, но только некоторые из них конкретно связаны с манерой Феофана Грека. Большая же часть их не обладает феофановской остротой и характерностью, но легко соотносится с общими основами палеологовского художественного строя, широко распространенного в Византии XIV в. и не столь оригинального, как у Феофана Грека. Трудно сказать, вышла эта рукопись из московской мастерской, созданной непосредственно Феофаном, или же из мастерской какого-либо другого греческого мастера.
Мы знаем из письма Епифания Премудрого Кириллу Тверскому, что Феофан Грек был "книги изограф нарочитый", т. е. работал как миниатюрист. Такой крупный мастер должен был иметь учеников и, по всей вероятности, руководил мастерской, где создавались лицевые рукописи. Лучшие и к тому же вполне греко-фильские миниатюры этого времени, украшающие Евангелие Хитрово, хочется отнести к мастерской столь выдающегося византийского художника. Однако вполне допустимо, что рукопись могла выйти из мастерской какого-либо другого греческого мастера. Кроме Феофана Грека, в Москве в конце XIV в. трудились и другие греческие живописцы, о чем свидетельствуют московские иконы и лицевые рукописи. Второе предположение тем более вероятно, что черты стиля этих миниатюр, даже двух первых, не имеют все же точного или достаточно конкретного сходства с индивидуальными приемами Феофана Грека. Но так или иначе несомненно, что художественная манера двух миниатюр Евангелия Хитрово восходит к византийской живописи, причем в основном к стилю палеологовской живописи первой половины XIV в. Именно с ее традициями связана чистота и ясность их классического художественного языка, светлая и изысканная колористическая гамма, конструктивная четкость понимания форм, не утративших еще идеально-поэтической озаренности. Специфического отпечатка позднепалеологовской культуры в них нет. Лишь только отдельные "феофановские" приемы ложатся на это классически ясное письмо и вносят в него отголосок более тревожного мироощущения.
Однако, кроме византийской основы, в стиле миниатюр Евангелия Хитрово есть много общего с чисто русской, московской живописью XV в. Черты эти столь заметны и определенны в трех последних миниатюрах рукописи, изображающих Матфея, Марка и Луку, что позволяют видеть в них работу второго, очевидно, русского мастера, возможно, ученика первого мастера-грека. Листы эти - одни из первых образцов складывающегося русского национального стиля. Во всех миниатюрах (кроме Иоанна, Прохора и ангела) - русские типы лиц с мелкими чертами, с плавным округлым контуром, более смягченные и приветливые, чем строгие аскетические греческие лики. Тот же русский акцент присутствует и в красочной гамме, более светлой и лучистой, и в общей художественной интонации, более мажорной и просветленной, чем в греческих письмах. Но всего ближе образам русского искусства миниатюра с изображением Марка, отличающаяся голубым дымчатым цветом одежд, праздничностью и лиричностью всей композиции. Одежды евангелиста написаны единым большим цветовым пятном, сияющим молочной голубизной. В них нет обычного расчленения на хитон и плащ, они выглядят как одна драпирующая ткань, поэтому смотрятся цельным силуэтом. Контур их более округлый и обобщенный, чем во всех других миниатюрах. Для высветления одежд мастер почти не употребляет пробела, членящие форму крупно, отчетливо, конструктивно. Он моделирует одежды более мягко и незаметно - тонкими темно-голубыми линиями, очерчивающими складки. Белила же он употребляет почти только как полупрозрачный лессировочный слой, сообщающий всей поверхности плавную освещенность. Все это делает поверхность малорасчлененной. Красочные пятна, особенно голубец, теряют ту каллиграфическую отчетливость и графичность, какая была в изображениях Иоанна с Прохором и ангела; краски высветляются, приобретают мягкость и дымчатость. В письме всех лиц (кроме ликов Иоанна и Прохора) применялись широкие зеленые тени, что сходно с русской манерой плоского наложения цвета в лицах. Нейтральностью своей они разрежают строгую скульптурность формы, сообщают всему облику оттенок добродушия. Та же тенденция изменения художественного строя видна в привязанности к округлому единому контуру, к целостному красочному пятну, в отказе от традиционной системы пробелов. Это стремление к общей смягченности, силуэтности, округлости, происходившее за счет снижения конструктивного смысла форм, отличает развитие русского живописного стиля XV в.
Три последние миниатюры - Матфей, Марк и Лука, - созданы московским мастером, современником Андрея Рублева или даже, быть может, им самим, хотя последнее остается проблематичным, точно так же, как и принадлежность двух первых миниатюр Феофану Греку. Русский мастер, несомненно, прекрасно знал палеологовские образцы, работал, вероятно, в мастерской византийского мастера (автора двух первых миниатюр) и находился под сильным его влиянием. Была ли это мастерская Феофана Грека или какого-то другого греческого художника - точно решить не представляется возможным. Но очевидно самое главное - скрещение в миниатюрах Евангелия Хитрово византийского стиля, широко распространенного в Москве в конце XIV в., и русского стиля, которому принадлежало будущее русского искусства.
В этом обозрении мы останавливаемся не на всех русских лицевых рукописях конца XIV - начала XV в., а лишь на тех, миниатюры которых отражают самое главное в художественном движении эпохи. Мы опускаем целый ряд лицевых рукописей, связанных с Новгородом (Псалтирь второй половины XIV в. ГБЛ, собр. ОИДР, № 167; "Слова Григория Богослова" конца XIV в. ГИМ, Син., № 43), Псковом (Евангелие 1409 г. ГИМ. Син. 71) (см. илл.) и Москвой ("Постнические слова Василия Великого" 1388 г. ГИМ, Чуд. 10; Евангелие Успенского собора конца XIV - начала XV в. ГИМ, Успен. 4; Евангелие из Андроникова монастыря начала XV в. ГИМ, Епарх. 436; Морозовское евангелие первой трети XV в. ГОП, инв. № 11056)*. Миниатюры каждой из этих рукописей примыкают к какому-либо из разбиравшихся выше живописных течений.

Евангелист Матфей. Евангелие. 1409 г. ГИМ, Сии., № 71
* (М. М. Постникова-Лосева, Т. Н. Протасьева. Лицевое евангелие Успенского собора как памятник древнерусского искусства первой трети XV века. - "Древнерусское искусство XV - начала XVI века". М., 1963, с. 133 - 172; Т. Ухова, Л. Писарская. Лицевая рукопись Успенского собора. Евангелие начала XV века из Успенского собора Московского Кремля. Л., 1969.)
Помимо рассмотренных групп рукописей из Москвы и Новгорода, немалый интерес представляют лицевые рукописи из местных центров; миниатюры их следуют традиционным для местных мастерских навыкам письма. Стиль их, порой достаточно архаичный, интересен именно своим локальным характером. Миниатюры эти часто заполняют пробелы в истории древнерусской живописи, вызванные недостатком точно атрибуированных икон. Среди них - рукописи из Полоцко-Смоленского края (Оршанское евангелие, написанное около середины XIV в. ЦБАН УССР, ДА.П.555; Онежская, или Смоленская, псалтирь 1395 г. ГИМ, Муз. 4040*, из Рязани (Жалованная грамота великого князя Олега Рязанского Ольгову монастырю второй половины XIV в. ЦГАДА, ф. 281, № 9281/1), из Твери ("Мерило праведное". ГБЛ, Тр, 15), из Средней Руси (Евангелие XIV в., из собрания Фролова, № 15. ГПБ, F.п. 1.15; Пролог второй половины XIV в. ГИМ, Син. № 247). Кроме того, существуют провинциальные миниатюры примитивного письма, лежащие вне всяких закономерностей развития стиля (Евангелие из Галича Костромского 1357 г. ГИМ, Син. 68; миниатюры XIV в., вшитые в ярославское Федоровское евангелие; галицко-волынское евангелие XIV в. ИРЛИ, Р. IV. оп. 25 № 30)**.
* (Г. Г. Бугославский. Замечательный памятник древней Смоленской письменности XIV века и имеющийся в нем рисунок символико-политического содержания.- "Древности. Труды Московского археологического общества", т. XXI, вып. I. M., 1906, с. 77-88.)
** (Л. П. Жуковская. Пергаменная рукопись XIV века из собрания Пушкинского дома (новое приобретение) - "ТОДРЛ" т. XXIII. Л., 1968 с. 305-311.)
В XV в. русские миниатюры не обладают таким разнообразием стилей, как в XIV в. Художественная жизнь XV в. хотя и не менее богата, но гораздо более единообразна, чем в XIV в., особенно его последней трети, в период большого национального подъема и созидательного размаха в искусстве, способствовавшего притоку на Русь иноземных мастеров и художественных образцов. В результате этих широких контактов и взаимопроникновения различных живописных стилей, как местного, достигшего блестящего расцвета еще в домонгольской Руси, так и завезенных на Русь, в художественной среде Москвы в начале XV в. создается особый русский стиль, ставший в условиях централизованного государства
XV в., национальным, общерусским. Ему подчиняется и письмо миниатюр. По лицевым рукописям можно проследить и общую его эволюцию, и вариации его в различных местных центрах, городах и монастырях. Наибольшие отличия от художественных норм этого стиля и тяготение к местным традициям обнаруживают немногочисленные миниатюры Новгорода (миниатюры последней трети XV в., вклеенные в Евангелие XVI в. ГБЛ, Рогож. 138; Евангелие инока Закхея 1495 г., созданное в Валаамском монастыре. БАН, 24, 4,26). Но и в них заметны принципиально не новгородские черты, восходящие к общерусскому, а по происхождению своему - среднерусскому стилю. Так же, как Новгород, долго старается хранить художественное своеобразие Псков*. Но псковские лицевые рукописи зрелого XV в. не сохранились, и эволюцию псковского стиля мы можем наблюдать только по иконам.
* (А. А. Покровский. Древнее псковско-новгородское письменное наследие. Обозрение пергаменных рукописей Типографской и Патриаршей библиотек в связи с вопросом о времени образования этих книгохранилищ. - "Труды XV археологического съезда в Новгороде", т. II. М., 1916; Л. В. Бетин. Псковские миниатюры 1463 года и некоторые проблемы псковской живописи середины XV века: - "Древнерусское искусство. Рукописная книга",[с 671]. М., 1972.)
Русских лицевых рукописей XV в. дошло до нас очень много. Но почти все они относятся к последней трети столетия, к эпохе Дионисия*. Как это ни странно, от первой половины века лицевых рукописей почти не сохранилось, если не считать московские рукописи раннего XV в. - Евангелия Хитрово и Морозова, Апостол из Гос. Русского музея, Успенское евангелие № 4 и Евангелие Андронникова монастыря. Но все они по художественному строю относятся к эпохе рубежа XIV-XV вв. Правда, в период Андрея Рублева и последователей его в первой половине XV в. знамением времени была икона. И все же едва ли создание миниатюр было предано забвению, особенно после блестящего расцвета искусства миниатюры на рубеже XIV-XV вв. Вероятно, этот пробел в истории искусства вызван случайными утратами. И только одна рукопись с превосходно выполненными миниатюрами - пергаменное Евангелие, ГИМ, Муз., 364**, восходит примерно к середине XV в., т. е. к периоду развития русского живописного стиля между эпохами Рублёва и Дионисия. Все остальные многочисленные русские миниатюры этого столетия относятся к промежутку от 70-х годов XV в., до начала XVI в. Большая часть их происходит из собраний Троице-Сергиевой лавры, Московской духовной академии, Кирилло-Белозерского и Иосифо-Волокаламского монастырей. Но немало их находится в рукописях бывших частных собраний. Основная часть рукописей создана в Москве и подмосковных монастырях. Но и те, что возникли в отдаленных от Москвы краях, например в Южной Руси - Евангелие из собрания Румянцева (ГБЛ, Рум. 123), Аникиево евангелие (БАН, 34.7.3) и другие, - чрезвычайно похожи по своей художественной системе на московские произведения.
* (Г. В. Попов. Дионисий и московские миниатюры (иллюстрации Лествицы в рукописи Герасима Замыцкого - памятник белозерского периода деятельности артели художника). - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", [сб. 1]. М., 1972, с. 256-285.)
** (Г. В. Полов. Живопись и миниатюра Москвы середины XV - начала XVI веков. М., 1975 (там же литература).)
Почти все миниатюры позднего XV в. отличаются хорошим качеством письма. Лучшие из них не уступают знаменитым иконам дионисиевского круга. Эту эпоху можно считать периодом расцвета искусства миниатюры, поднимающегося почти до уровня иконописи. Если миниатюра и уступает несколько иконе по художественному совершенству, то все же не меньше, чем икона, отражает особенности русского стиля XV в., его символический смысл.
Новый облик рукописной книги, тонкая бумага, сменившая толстый глянцевитый пергамен, облегченные пропорции листа, большая, чем раньше, свобода и подвижность почерка соответствуют и образам искусства XV в., и самой живописной его манере, прозрачной и смягченной. Бумага, впитывающая краску, предполагает более хрупкий красочный слой, чем тяжелый блестящий пергамен. Весь облик листа с миниатюрой в рукописи XV в. становится более легким и пропорциональным. Образам этих миниатюр свойственны просветленность и душевная расположенность, которые не проявлялись в византийском искусстве с такой лиричностью и непосредственностью.
Все приемы письма этих миниатюр уже не связаны строго с византийской живописной системой, с ее идеальной построенностью и холодной пропорциональностью. Они подчиняются своим особым законам, выработанным только русской живописью, рассчитанным на создание проникновенной, чуть сентиментальной атмосферы. Мастера-миниатюристы описывают фигуры плавными параболическими контурами, стремятся сохранить целостность линии и красочного пятна, их текучесть и согласие. Они не дробят ткани широкими пробелами, ибо хотят не расчленить форму, а сохранить ее силуэтное единство. Драпировки одежд выявлены легкими и короткими цветными линиями, передающими очертания складок, гораздо менее назойливыми, более незаметными, чем длинные вертикальные пробела, распространенные в русской миниатюре XIV в., более деликатными и осторожными, чем резкие линейные шраффировки, свойственные русскому письму XIII в. Складки одежд переданы столь правильно, что за ними чувствуется форма, очертания тела, но при этом нет ощущения их жесткой конструктивности, обычной в византийском искусстве. Мастера XV в. делают одежды широкими, просторными, как бы наполненными воздухом. Плащи не облегают фигуры, а обволакивают их, сообщают им невесомость и бесплотность. Эти мастера любят светлые, мягкие краски, спокойные тональные переходы, охотно используют голубец и золотистые охры. Их излюбленные красочные гаммы - мажорные и согласованные, без каких-либо контрастов и неожиданностей. Гораздо чаще, чем к локальному открытому цвету, они прибегают к молочной туманности тона, к сочетаниям высветленных полутонов. В их красочных соотношениях есть тихая, сосредоточенная настроенность, рассчитанная на углубленное созерцание. Благодаря обилию сияющего голубца и блестящим белильным лессировкам красочная поверхность лучится светом, причем сдержанность и согласие ее цветовой интонации создает впечатление не внешнего источника света, а внутреннего излучения, одухотворяющего все формы, всю материю. Мастера этого времени наделяют фигуры вытянутыми пропорциями, сообщающими им легкость, близкую парению. Излюбленные ими русские типы лиц с выражением доброты и прощения, плавный очерк толов восходят еще к образам Андрея Рублева. В лучших миниатюрах позднего XV в. письмо лиц строится на тончайших мерных плавях, на едва уловимых перетеканиях теплых коричневых и светлейших дымчатых зеленых оттенков. Красных румян мастера избегают, не желая нарушить резкой вспышкой нежную, прозрачную тональную гармонию. Краска не лепит объем, а лишь обтекает его. В письме этом нет ни малейшей обнаженности цвета, никакой экспрессии мазка, никакого раскрытия приемов мастерства. Письмо, строящееся на чистых плавях, до сих пор никогда не применялось в миниатюрах. Эта иконописная манера очень сложна для миниатюр, так как небольшую красочную поверхность трудно наполнить постепенными нюансами оттенков одного тона. В XV в. во всех русских миниатюрах хорошего письма употребляются плави.
Один из самых хитроумных приемов византийской живописной системы, плавь призвана скрыть художественную форму, спрятать процесс ее создания, могущий отвлечь от чистого духовного созерцания. Плави, столь излюбленные в русской иконописи и миниатюре XV в., часто использовались в греческом комниновском искусстве. Однако в византийской живописи всегда действовал классический закон пластического художественного мышления, и плави не затушевывали в ней форму, крепость и очевидность конструкции. В русской живописи XV в. плавь доведена до такой утонченности, что само письмо, строящееся на сотнях ювелирных сливающихся нюансов, становится незаметным. Ясный конструктивный смысл формы теперь менее важен, чем спиритуалистическое, нечувственное ее восприятие. Сплавленное письмо, мягкое и вместе с тем скрытое, соответствовало общей направленности искусства этого времени с его лиризмом и стремлением к молитвенному углублению.
Архитектурные фоны в миниатюрах XV в. значительно отличаются от архитектурных композиций рубежа XIV-XV вв. В них утрачивается идеальная соразмерность, соотнесенность с общей композицией миниатюры и отдельных форм друг с другом, стремление к организации пространства. Архитектурные фоны, совершенно бесплотные, невесомые, имеют уже только декоративное назначение. Формы их не обладают тяжестью и плотностью, а соотношения этих форм - какой-либо реальностью. Они строятся по законам плоскости и ровно закрашиваются. В миниатюру такие архитектурные кулисы перенесены из иконописи XV в., где развитие их подчинено декоративной логике иконостаса. Они приобретают, по сравнению с фоновыми постройками XIV в., новый характер, красочный и декоративный - с одной стороны, фантастический, нематериальный, усиливающий одухотворенность композиции - с другой.
Все эти стилистические черты русских миниатюр XV в. создают совсем не аскетическую художественную интонацию. Такие их особенности, как всеохватывающие плавные линии, согласие цветовой гаммы, дымчатость красок, добродушный тип лиц с выражением кротости и сочувствия, подчиняются единому внутреннему смыслу, служат выражению специфического для русского искусства того времени духа общности и приветливости. Русские миниатюры XV в., наряду с иконами, отразили особую духовную атмосферу, существовавшую на Руси преимущественно в монастырях с конца XTV и в течение XV в., созданную под влиянием идей Сергия Радонежского и впоследствии Нила Сорского, атмосферу, полную чистых, наивнопатриархальных мыслей о нравственном совершенстве и духовном равенстве, атмосферу, простотой, утопической идеальностью близкую духу первохристианской апостольской общины.
Вместе с тем общий характер этого стиля, такие его черты, как замкнутость контуров, внутреннее свечение" красок, постепенность плавей, отсутствие возможности конкретных ассоциаций, отвлекавших бы от чистого духовного сосредоточения, соответствуют той спокойной созерцательности, которая присуща православию.
Живопись XV в. представляет собой самый своеобразный этап в развитии русского искусства. Это был период расцвета национального русского стиля, самостоятельного по отношению к искусству восточнохристианского мира. Многочисленные древнерусские миниатюры XV в. отразили этот стиль со столь же высоким художественным совершенством, как и иконопись. Последняя треть XV в. - и завершение развития этого стиля, и начало упадка его. Уже в конце XV в. он стал терять свою внутреннюю содержательность, приобретать сухость. Миниатюры достаточно полно отражают этот процесс. Рядом с образами, полными проникновенной мягкой душевности, как, например, изображения евангелистов в евангелиях последней трети XV в. (ГБЛ, МДА, 1) (см. илл.); ГПБ, Кир.-Бел. 44/49), есть немало миниатюр позднего XV и раннего XVI в., свидетельствующих о начале упадка этого живописного направления (Евангелие. ГПБ, Q.I.19; Апостол. ГБЛ, Иос.-Вол. 79; Евангелие. ГБЛ, МДА, 2; "Лествица Иоанна Лествичника". ГБЛ, Троиц. 162, и др.) (см. илл.). В начале XVI в. этот стиль почти утрачивает внутренний символический смысл, но утончает внешние приемы до каллиграфической рафинированности. В нем нет уже ни мягкой задушевности, ни глубокой духовности; осталась лишь изысканная внешняя форма, разукрашенная оболочка некогда очень серьезного образа. Тенденция к этому очевидна уже в миниатюрах Евангелия 1507 г. (ГПБ, Пог. 133) (см. илл.), созданных Феодосием, сыном знаменитого мастера XV в. Дионисия*. Эти миниатюры, полные внешнего художественного блеска, откровенной орнаментальности и почти ювелирного узорочья, уже лишены классической меры. Они знаменуют собой начало одного из путей развития русской миниатюры в XVI в.
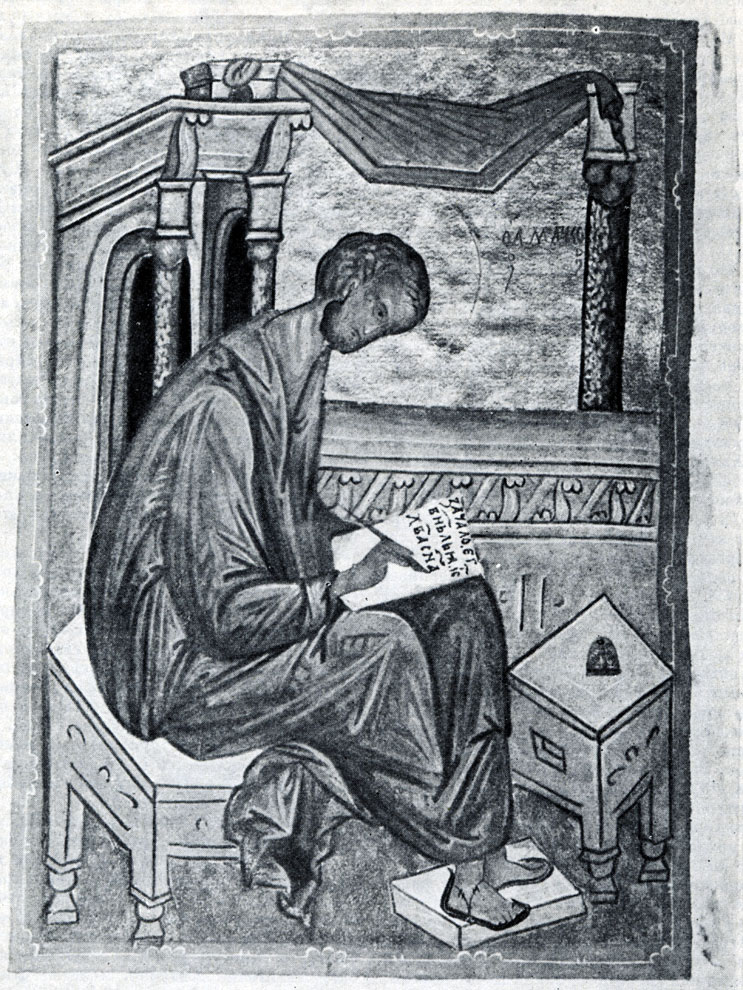
Евангелист Марк. Евангелие. Последняя треть XV в. ГБЛ, МДА 1

Царь Давид. Псалтирь. Последняя четверть XV в. ГБЛ, Троиц., 315

Пророк Захария. Книга Пророков. 1489 г. ГБЛ, МДА 20

Лествица небесного восхождения. Лествица Иоанна Лествичника. Конец XV - начало XVI в. ГБЛ, Троиц., № 162

Евангелист Матфей. Евангелие Феодосия, сына Дионисия. 1507 г. ГПБ, Пог., № 133
* (А. Ф. Бычков. Заставки и миниатюры Четвероевангелия 1507 года. СПб., 1880-1881; Г. В. Попов. Дионисий и Московская миниатюра. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", [сб. 1], с. 256-285 (там же - литература вопроса).)
Русские миниатюры XVI в. представляют собой достаточно пеструю картину. Но, несмотря на их разнообразие, очевидно, что в целом русская миниатюра в XVI в. пошла по пути большей внешней эффектной выразительности. Тот же процесс характерен и для русской иконописи. Однако в последней еще долго сохранялись отголоски живописи дионисиевского времени, в то время как в миниатюре рубеж XV-XVI вв. был резкой переломной эпохой.
|
ПОИСК:
|
© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'