
О книгах и читателях (Ивашкевич Я. Перевод Ларина С.)
Каждую книгу я открываю с таким чувством, будто начинаю путь в неведомую страну

О книгах и читателях
Не так давно я разговорился с одним из своих друзей-литераторов о книгах и о любви к чтению. Побеседовав, мы пришли к довольно пессимистическим выводам. Нам показалось, что любовь к чтению - старомодная привычка и что, собственно говоря, книга - это пережиток и судьба ее предрешена в грядущем атомно-кибернетическом веке.
Возможно, отчасти так оно и есть. Может, именно поэтому и возникают всякого рода сетования на то, что роман изжил себя, может, поэтому понизился интерес к настоящей полноценной прозе, может, по этой же причине ведутся лихорадочные поиски какой-то новой литературы, призванной более надежно завладеть вниманием читателей.
Несомненно, изящная словесность переживает определенный кризис. Но не стоит увлекаться пророчествами, паниковать никогда не стоит, а тем более по поводу книг. Недавно на одном очень представительном совещании говорилось о вреде телевидения. Что оно, мол, оглупляет, плохо воздействует на детей и порождает нездоровые интересы, одним словом, деморализует молодежь. Но один весьма благоразумный человек по этому поводу заметил: прежде чем телевидение начнет нас деморализовывать, оно (при нашем недостаточно высоком культурном уровне) чрезвычайно расширит горизонты рядового поляка.
Точно так же и с книгой. Прежде чем она успеет превратиться в пережиток и на смену ей придут те загадочные "кикимобили", появление которых предсказывала в своих стихах Мария Павликовская, до сих пор культ книги и любовь к чтению сыграют еще большую роль в нашей духовной жизни.
Пока еще книга остается сокровищем для нашего рядового читателя, сокровищем настолько притягательным, что иногда он даже идет на преступление, присваивая ее себе.
В Ополе недавно состоялся единственный в своем роде судебный процесс. Из трех тысяч абонентов Публичной библиотеки восемьсот, несмотря на неоднократные напоминания, не вернули книги. Человек пятнадцать из них предстало перед судом. Все как один обвиняемые в свое оправдание говорили, что хотели иметь полюбившуюся книгу, и это желание было настолько сильным, что оно побудило их присвоить желанный предмет.
Итак, книга у нас - еще сокровище. И дай бог, чтобы она долгие годы им оставалась.
Я не хочу здесь говорить о роли книги в деле распространения культуры. Напротив, я хотел бы сказать о том, какую глубоко индивидуальную роль играет книга в жизни каждого из нас. А также в моей собственной судьбе.
Если говорить о чтении, то я самый заурядный читатель, и хотя не очень люблю романы (как повар не любит собственной стряпни), но вообще книги боготворю и не представляю себе, как я мог бы обойтись без них на необитаемом острове. Кто-нибудь, пожалуй, возразит мне: очень просто, сами принялись бы сочинять их. Но это заблуждение. Собственная книга - нечто совсем иное. Когда знаешь, как она создавалась - хотя нередко успеваешь забыть, как родился тот или иной замысел, - то относишься к ней как к чему-то, что тебя обмануло и глубоко разочаровало.
Чтение - это привычка, нечто такое, что можно, пожалуй, сравнить с курением. Ведь чтение никогда не сулит непосредственной выгоды. Если же такую выгоду преследуют, это уже не бескорыстная любовь к чтению, а совсем иное. Чтение - единственный вид искусства для искусства, которое в наши дни можно оправдать.
В том, что такое книга для нашего читателя, я имел возможность убедиться во время моих ежедневных "встреч с избирателями". Так один из моих коллег-депутатов назвал мои поездки в электричке, которые занимают у меня два часа в день. Я действительно очень ценю эти поездки: Лесная Подкова - Варшава. Они позволяют мне довольно верно уловить настроение общества, знакомят с интересами, суждениями и повседневными заботами окружающих людей.
Примечательно, что большинство едущих на работу читают в дороге, однако на обратном пути читают меньше, сказывается усталость. Причем читают самые разнообразные книги, начиная от "Унесенных ветром" и кончая "Этикой" Спинозы. Вагон электрички напоминает по утрам читальню. Не обращая внимания на торговок, возвращающихся с рынка, и на истинное бедствие пригородных поездов - болтливых милановских кумушек, громогласно излагающих события собственной жизни и жизни своих ближних, мужчины, старые и молодые, солидные женщины и юные девушки-все без исключения читают.
Читают с увлечением, с раскрасневшимися щеками, с волнением. Признаюсь, на них просто приятно поглядеть!
Свои собственные книги в руках попутчиков я вижу нечасто. Когда же это случается, я испытываю смущение. Становится досадно, что люди читают вещи, создавая которые я порой забывал о тех, кто будет впоследствии перелистывать эти страницы. В такие минуты я ощущаю всю полноту своей писательской ответственности, и мне приходит в голову, что все-таки мы, литераторы, не осознаем до конца, какое бремя возлагаем на себя, отдавая книгу в руки читателя. Я не сомневаюсь, что каждый писатель творит для читателей, но как часто он при этом вкладывает в свою книгу сугубо личные переживания, затрагивает такие проблемы, которые понятны и интересны только ему, а читателю кажутся чуждыми и надуманными. Мы редко вспоминаем о том, что у книг своя судьба, что, пущенные писателем в обращение, они начинают жить самостоятельно, жизнью активной, продолжительной, исполненной той последовательности, какой иногда недостает ее автору. Чтение - своего рода страсть, которой подвержены старики и молодые. Старикам книга скрашивает незадавшуюся жизнь (ведь старикам всегда кажется, будто их жизнь не удалась), дополняя ее тем, чем их обделила судьба. Молодым книга открывает нечто такое, чего они еще не знают и сами не пережили. И старый и молодой способны полностью слиться с читаемой книгой.
Как известно, первые детские впечатления - самые сильные. Сегодня возле дома я видел, как пожилая женщина показывала малышу великолепного петуха, который копался в прошлогодней листве. Глаза у ребенка расширились от восхищения и восторга, когда он взирал на яркую, большую птицу. По глазам мальчугана было заметно, что вид роющегося в земле петуха для него - целое событие, знакомство с новым явлением восхитительного и чарующего мира, что этот образ запечатлится в его сознании на всю жизнь. Да я и сам по-другому взглянул на эту картину, на взъерошенный, волнуемый ветром петушиный хвост, на алый блеск оперения на груди, на коралловый гребень. Я смотрел на птицу глазами ребенка.
И представил себе, какое впечатление произведет на этого мальчугана первая прочитанная им книга, как она врежется ему в память, раскроет перед ним неведомый, яркий мир, как некогда передо мною сказки "Заколдованный Гучо" и "Мыши короля Попеля". И мне сделалось немного грустно оттого, что я уже не могу так воспринимать книги. Не могу, но стремлюсь к этому. Каждую книгу я стараюсь осмыслить как нечто новое, словно я все еще наивный ребенок. Каждую книгу я открываю с таким чувством, будто начинаю путь в неведомую страну.
Так и должно быть. К книге надо всегда относиться с энтузиазмом и восхищением, ведь и автор, создавая ее, был преисполнен энтузиазма и думал - или только обольщался мыслью, - что открывает новые перспективы, показывает окружающую жизнь в новом, неожиданном свете.
Да, чтение - это искусство. И как всем другим видам искусства, этому нельзя научиться! Это рождается в душе человека, как вдохновение. Любовь к чтению начинается рано.
Вот маленький человечек удобно устраивается на кушетке с изрядным запасом яблок (прежде это были "рожки" или свентоянские хлебцы) и вместе с фруктами начинает поглощать один том за другим. И нечто содержащееся в книгах, словно ароматный яблочный сок, струится в горло, и на секунду у него перехватывает дыхание. Обычно это бывает "Трилогия" или один из романов Дюма. Когда читают "Трех мушкетеров", то забывают даже о яблоках. А при знакомстве с Шерлоком Холмсом к чувству восхищения прибавляется нервная дрожь, это не только свидетельство страха, но еще и первого, неосознанного упоения самой конструкцией вещи, ее формой, которая замыкается развязкой, как скобкой, как математическим знаком.
Потом наступает иная пора. Внезапно появляется "Антигона" (потому что очередь "Эдипа в Колоне" приходит с наступлением ясных, осенних дней старости). "Антигона" - это почти откровение. В простых словах столько глубочайшего смысла, конфликт закона божественного и человеческого, конфликт, который временами кажется просто "капризом". Рыдания девушки, которая отправляется на "каменное ложе" умирать! И тут открываются удивительные миры - неведомые и неожиданные: мужество и красота обыкновенного человеческого поступка, который определяет собою все.
Это уже преддверие самого восхитительного чтения - чтения стихов. Стихи захватывают нас сначала своим содержанием, потом ритмом, позже мы обращаем внимание на рифму и уже в последнюю очередь на то, что составляет суть стиха: на порядок и сочетание слов, которые влияют друг на друга, как краски на палитре художника. Кто попал однажды в эту страну, тот погиб, он жаждет все новых красок, новых ослепляющих фейерверков и тихих шепотов. Начинаются поиски отдельных звуков, тонов, слогов и букв. Временами даже хочется, чтобы чужой стих выглядел так, как нам самим это нравится.
И, только поняв наконец тот волшебный мир, который открывает нам человеческая речь, облеченная в слова, фразы, страницы, начинаешь постигать, что такое книга. Только тогда понимаешь, что значат эти небольшие прямоугольники, состоящие из листков бумаги, заполненных печатными знаками, а на этих листках...
Постепенно читатель превращается в собирателя книг. В своей страсти он стремится сделаться обладателем того, что прочел. Ему уже недостаточно библиотеки или читальни. Он жаждет, уединившись в тишине своей комнаты (если такая тишина вообще возможна в нашем современном мире), установить контакт с прошедшим, настоящим и будущим.

Фото Стигнеева В.
У книги в наше время много соперников, и, быть может, поэтому она выходит из моды. Радио, телевидение, кино... львиную долю очарования похитили эти изобретения у книги! Но одного они не в состоянии отнять у нее - ее тишины и безмолвия. Безмолвие книги - это то, что действует на нас сильнее всего. Безмолвие-это чара, которую мы можем наполнить собственными эмоциями, собственным воображением. Кино, телевидение навязывают нам свой образ, не позволяя представить его по-иному. Книга уже утверждает нашу индивидуальность, оберегает нашу личность от напора всего того грубого, крикливого, агрессивного, что имеется в современной культуре.
Книга пленяет меня отнюдь не своим внешним видом, я люблю книгу, потому что она вводит меня в мой собственный мир и открывает во мне самом, а не вне меня, те богатства, о которых я сам не подозревал. Поэтому я окружаю такой любовью свою библиотеку.
Скажи мне, какие книги стоят у тебя на полках, и я отвечу тебе, кто ты. Такой должна быть поговорка. Увы, тот, кто захотел бы судить обо мне по моей библиотеке, вынужден был бы порядком поломать себе голову, поскольку библиотека эта - следствие очень сложных процессов, результат жизни многих людей и очень разных поколений.

Фото Богданова В.
Она сохранилась почти полностью. Если, конечно, не принимать в расчет вандализма моих друзей, которые зачитывают, а иногда и попросту крадут книги. Не так давно с моего письменного стола пропал изящно переплетенный том, содержащий все довоенные фарсы, с дарственными надписями Лехоня, Тувима, Слонимского, Святопелка Карпинского и Януша Минкевича. На полке, где хранятся старые издания, недостает моего любимого "Повара с хорошим нравом", изданного в Вильно в начале XIX столетия, кто-то стянул у меня и одну из годовых подшивок "Скамандра", разбив тем самым единственный сохранившийся в моей библиотеке полный комплект этого издания.
Моя библиотека - итог коллекционирования нескольких семей. Самая дорогая реликвия здесь - десяток книг из библиотеки моего отца, которые претерпели весьма удивительные метаморфозы. Они собирались отцом очень старательно и помечались им отнюдь не экслибрисом, а мало чем отличавшейся от канцелярской печаткой: "Из книг Болеслава Ивашкевича". Потом они покинули "новый" шкаф в нашей кальницкой квартире и странствовали вместе с моим братом, непрерывно менявшим службу, по самым отдаленным уголкам Украины. И наконец, уже во время войны, попали в Стависко. Это в большинстве своем тома великолепной левенталевской "Библиотеки шедевров европейской литературы", содержащие первые переводы Бальзака, Байрона, Гёте.
Я с нежностью поглядываю на эти книги. В них оживает все мое детство и вся жизнь моего отца, скромного служащего на сахарном заводе. Он с необычайной тщательностью выписывал книги, высылаемые "по заказу", долго размышляя, какие именно выбрать, а потом страшно радовался, когда долгожданная бандероль с книгами приходила из Варшавы. Книги тотчас же заносились в каталог, знакомые приходили поинтересоваться, что он получил. И записывались в очередь, чтобы их прочесть...
Но сначала их следовало переплести. Этим занимался переплетчик из соседнего Дашева, о котором я уже где-то писал. Он отличался тем, что был косой и носил совершенно невероятную фамилию: Пшиянтель, которая в русском написании выглядит особенно странно. И я подумал об удивительной судьбе людей и вещей, когда побывал не так давно в этом самом Дашеве, видел маленький домишко, в котором некогда трудился наш знаменитый Пшиянтель, стоял коленопреклоненный на могиле отца, почившего в далекой украинской земле более полувека тому назад.
Помню (этот эпизод также навеян томами с печатью "Из книг Болеслава Ивашкевича"), как бедный Пшиянтель привез или принес отлично переплетенные толстые фолианты "Иллюстрированного Еженедельника" и с гордостью показывал надпись крупными буквами: "ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖИНЕДЕЛЬНИК". И довольному делом своих рук ремесленнику пришлось выслушать резкие упреки моего отца. Однако тома эти, с неправильным заглавием, так и остались в отцовской библиотеке. Увы, они не сохранились до наших дней.
По вечерам в доме читались самые разнообразные романы, им обязаны были мы, дети, своими первыми литературными впечатлениями. И может быть, уже тогда под их влиянием родились и некоторые мои творческие замыслы.
Я не коллекционирую книги, но эти тома, стоит мне только взять их в руки, вызывают у меня волнение: это те самые экземпляры, которые я, будучи ребенком, извлекал из шкафа и читал, еще не очень хорошо понимая, о чем там идет речь, но они так глубоко запали мне в душу, что я по сей день, даже в последних моих произведениях, нахожу фразы и стихотворные строки, прочитанные мною в детстве. Такое зерно, запавшее в сердце в раннем возрасте, формирует вкус на всю жизнь.
Эти первые встречи с книгой приохотили меня к чтению, и я до сих пор с жадностью поглощаю книги; в этом, очевидно, проявляется моя несовременность, а может быть, наивность.
Любая книга в моей библиотеке, не пострадавшая от времени и от моих друзей (о мышах я уже не говорю!), была прочитана мной или могла быть прочитана. Что, разумеется, одно и то же, с той только разницей, что "воображаемое" чтение не отнимает так много времени! Если бы я в самом деле захотел прочесть все эти книги, мне не хватило бы целой жизни.
Впрочем, если кому-нибудь пришла бы в голову мысль определить характер моей библиотеки, то он скорее назвал бы ее библиотекой историка, а не литератора.
Самый большой интерес у меня всегда вызывала история. И хотя я написал только один исторический роман, но книги, собранные мной для изучения отдаленной эпохи Генриха Сандомирского, могли бы составить небольшую библиотечку. Впрочем, я не ограничивался временем, в котором развертывается действие романа "Красные щиты". В шкафах моего кабинета немало, к примеру, книг, относящихся к периоду Византии, древнего Востока, Чингисхана или же к истории Рима. Все это интересы совершенно особого свойства и не имеют ничего общего с моим литературным трудом. Например, сведения, какими я располагаю по истории Армении, никогда не использовались мною в рассказах или романах, как и содержание многих томов, которые остались моим личным достоянием.
Особая область моей библиотеки - поэтические сборники, занимающие отдельный шкаф. У меня есть томики стихов, которых уже никто не помнит. В большинстве своем они относятся к довоенному двадцатилетию, которое изобиловало самыми разнообразными поэтическими изданиями. Большинство фамилий авторов этих книг мало или совсем ничего не говорит нынешнему читателю. И не только рядовой читатель, но и кое-кто из молодых критиков раскрыл бы рот, если бы я, например, упомянул поэтические произведения Радослава Краевского или Анны Слончинской.
Признаться, я редко заглядываю в этот шкаф, однако стоит мне заглянуть туда, как меня подстерегают всякие неожиданности; какие-то преданные забвению томики внезапно открывают передо мной не свою проблематичную ценность, а как бы доносят до меня дуновение воспоминаний юности или зрелой поры, когда я читал эти стихи, знал самих авторов, спорил с ними и считал выход в свет этих, ныне абсолютно забытых книжек, неким событием в литературе. Этот жизненный пример может служить убедительным memento mori для некоторых современных поэтов, имя которым - легион. Искусство версификации ушло, конечно, далеко вперед, однако они так же мало способны выразить окружающий мир, как их, ныне забытые, предшественники.
Временами в таком шкафу нас ждут совершенно неожиданные встречи, сюрпризы, напоминания о давно забытых делах и событиях, которые оживают при вспышке воспоминаний, меняющих былые оценки и вводящих нас в круг серьезных проблем. Так случилось, например, с томиком Яна Лехоня "Бабинская республика", который я минуту назад достал с пыльной библиотечной полки, разыскивая забытые книжечки Анны Слончинской. Со сборником этой писательницы, дочери известного варшавского ювелира, связаны забавные воспоминания об обедах в доме ее родителей, когда гости во фраках после изысканных блюд вынуждены были слушать, как молодая поэтесса, очаровательная, впрочем, особа, читает свои стихи. Стась Балинский во время этих декламаций предпочитал заниматься перестановкой мебели в соседнем будуаре...
А "Бабинская республика"? Что за великолепная вещица, что за темперамент, какой юмор! Хотя ныне никому уже ничего не говорят фамилии политиков и деятельниц, упомянутых в этих стихах, поблекли и намеки, содержавшиеся в прозе, однако все еще забавляют остроумные шутки, покоряет виртуозная инструментовка стиха. Почему мы забыли о "Бабинской республике"? Чего ради пытаемся сделать из Лехоня четвертого поэта-пророка - и не помним этих истинных жемчужин, этих легких, брызжущих остроумием стихов, в которых заключен весь варшавский юмор, юмор Каетана Венгерского, и где очаровательный стиль Трембецкого нашел своего подражателя и продолжателя.
На книге дарственная надпись, характерная для Лехоня: "Дорогому Ярославу, восхищенный "Колыбельной", влюбленный в "Май". Лешек. 6.11.20".
О какой колыбельной идет здесь речь - неизвестно, так как я написал их больше десятка. А "Май" - это стихотворение, которое я действительно читал ровно сорок лет тому назад в "Пикадоре", в незабываемом литературном кабаре или кафе, где и Лехонь читал свои презабавные вещицы из "Республики".
И когда я вижу перед собой начальные строки известного стихотворения "Пани Падеревская", посвященного профессору Стронскому (оказывается, мы не так далеко ушли от тех времен):
Впервые после королевы Боны Встречаются у нас такие жены,-
мне сразу вспоминаются не только кафе "Под Пикадором" и его посетители, не только бесподобные художники, обсуждавшие с таким остроумием последние выставки в "Захенте", что зал покатывался со смеху, но и то, что последовало за всем этим, продолжение этого. Ведь, как известно, привилегия старости состоит в том, что ей известно "продолжение". Мы дружно смеялись, когда Лешек читал этот пасквиль, но одновременно я вспоминаю другое: лет пятнадцать спустя в салоне польского посольства в Париже Лешек подошел ко мне и сказал:
- Послушай, Валери хочет, чтобы Падеревский написал ему что-нибудь в альбом, а я не могу подойти к нему...
- Почему не можешь?
- Разве ты не помнишь? Ведь я написал "Пани Падеревскую"...
Такие воспоминания таит в себе почти каждый томик из моего "поэтического шкафа". Это, что называется, "живая библиотека", и такие книжные собрания я больше всего ценю не только у себя, но и у других. Ведь моя коллекция чудом уцелела во всех злоключениях. На нее пялили глаза немецкие жандармы ("Wer wird das alles lesen?"* - Kaк сказал один из эсэсовцев, навещавших меня в Стависко отнюдь не с дружественными намерениями), ее осматривали и те два советских воина, которые были первыми туристами, посетившими мой кабинет, "кабинет писателя".
* (Кто будет все это читать? (нем.).)
Почти о каждой книге я мог бы что-то рассказать, почти любая из них так или иначе связана с давними воспоминаниями и сегодняшними волнениями, каждая, помимо своего собственного содержания, несет на себе отпечаток быстротекущего времени.
На ее полках - целые человеческие судьбы, обрывки чьих-то нашумевших биографий и скромная жизнь людей, таких, как мой отец.
Остановлюсь на музыкальном разделе.
Музыкальная часть моей библиотеки неожиданно выросла на второй год войны за счет книг Яна Эффенбергера-Сливинского. Это была только часть его книг, которые он оставил на хранение в Прушкове, уполномочив из-за границы свою хозяйку продать их. Посредницей в этой сделке была Мария Земинская. Привезли книги на двух подводах, и стоят они у меня на полках без особой пользы. Когда я прошу музыковедов заглянуть ко мне и поинтересоваться, что там имеется, они не спешат это делать. А ведь тут, в этих книгах, - частица необыкновенной жизни, след, сохранившийся от незаурядного человека, человека, какого теперь уже не встретишь.
Ян Эффенбергер-Сливинский, или просто Ганс, как называли его в дружеском кругу, был всем понемногу: певцом, музыкантом, дилетантом, писателем, преподавателем военной академии (как бывший легионер, он имел высокое офицерское звание), но прежде всего - ярким представителем богемы, известным в Вене, Париже, Лондоне и Варшаве.
Сразу после войны он открыл в Париже маленький нотный магазинчик на рю дю Шерш-Миди. Я любил заглядывать туда во время моего первого пребывания во Франции. Там всегда можно было встретить музыкантов, познакомиться с только что изданными нотами группы "Шести", с произведениями Стравинского. Собственно говоря, концерты в редакции "Ревю мюзикаль", устраиваемые по вторникам, и посещения магазинчика Ганса ввели меня в музыкальный мир Парижа того времени.
О Гансе я слышал еще в России от Кароля Шимановского, который виделся с ним в Вене и считал его австрийцем по происхождению. Но, возвратившись на родину, к величайшему своему удивлению, Шимановский снова встретил Сливинского: как бывший легионер, тот трудился теперь на благо Польши. С тем же самым Гансом в 1921 году Кароль поехал в Лондон организовывать концерты польской музыки за границей.
Но с концертами ничего не получилось, как и с магазинчиком Ганса в Париже, как в конце концов ничего не получилось и из его неудачно сложившейся, но весьма романтической жизни.
Никогда не забуду встреч поэтов в Плавовицах у Людвика Морштына, когда до поздней ночи мы слушали песни Шуберта и Брамса в исполнении Сливинского. Он был необыкновенным исполнителем.
В бумагах, оставшихся после него и попавших ко мне, очень много программ его концертов в Люблине, Варшаве и в других городах. Однако мне кажется, он никогда не был эффектным эстрадным певцом. Красивый, но грузноватый и как бы несколько скованный, он не мог достаточно импозантно выглядеть на подмостках. Голосом он обладал не сильным, но задушевным и проникновенным, прекрасно звучащем в небольшом помещении, когда Эффенбергер сам аккомпанировал себе на фортепиано и пел, вернее, напевал вполголоса великолепные, исполненные глубокой грусти (Weltschmerz*) песни. Все, у кого неудачно сложилась жизнь, кто ценил поэзию романтической песни, слушали его, затаив дыхание.
* (Мировая скорбь (нем.). )
Я счастлив, что тень этого незаурядного человека живет в моем доме в книгах и нотах его библиотеки, в песнях Хуго Вольфа и балладах Лёве, в его рукописях и переводах. Мне с ним хорошо.
Я так много рассказываю о своей библиотеке. Но, собственно, это разговор о писателях, с которыми я общаюсь, которые оказываются как бы "под рукой". Нам всем с ними хорошо. В них мы находим друзей, с которыми ведем долгие беседы, друзей, которые поддерживают нас в трудную минуту. Это не просто библиотека. Это сокровищница чувств и мыслей, из которой можно черпать на протяжении всей жизни.
И может, поэтому я больше всего люблю тех писателей, с которыми был знаком. Я знаю, как разительно их книги отличаются от них самих и какими чаще всего обыкновенными людьми были авторы этих выдающихся книг. Дневники "пана Стефана" помогают мне увидеть юношу в пожилом человеке, общество которого я так любил. В "Письмах" Пшибышевского передо мной предстает человек, крайне утомленный и больной, такой, каким я видел его на склоне лет, во всем его человеческом естестве.
Но и в других книгах, авторов которых нам не доводилось знать лично, мы тоже находим "старых знакомых", с которыми охотно поговорили бы, и сожалеем, что наши жизненные пути никогда не скрестились. Одним словом, книга хороша тогда, когда она живая.
Все это, как говорится, прекрасно, но как рождается книга? Разумеется, речь идет не о полиграфических процессах, не о бумаге, типографиях, переплетном деле, редактуре и корректуре - всего этого мы здесь касаться не будем. Я имею в виду сам процесс возникновения книги в сознании ее автора или попросту: как пишется книга?
Тут не существует точно установленных правил. У каждого писателя к этому свое индивидуальное отношение, каждый по- своему готовится к работе, по-своему собирает материал и по- своему использует его. Один творит за письменным столом, другой - стоя перед пюпитром (как Рильке), третий хватается за свою тетрадку, где придется, как, например, Джозеф Конрад, которого жена не раз заставала в ванной с рукописью на коленях, с рукописью, из которой рождались шедевры...
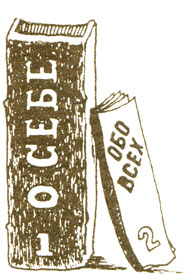
Рисунок Филонова А.
Увы, в этих вещах каждый обречен довольствоваться собственным опытом и не может написать о том, как "создаются книги вообще", но лишь о том, как возникают его собственные. Так что я могу говорить только о своем личном опыте и собственных наблюдениях при работе над книгой.

Дюрер А. 'Святой Иероним'. 1521
Разумеется, многое зависит от того, какую книгу пишешь. Одно дело, когда пишешь прозаическое произведение, иное - драму. А уж сочинение стихов - в уме или на бумаге - процесс совершенно особый, и, мне кажется, у каждого поэта он протекает абсолютно по-разному. Впрочем, существуют многочисленные, хотя и не всегда исчерпывающие, но чрезвычайно любопытные признания самих поэтов на этот счет.

Пермяк Е.А. Фото Богданова В.
Если говорить обо мне, то мое поэтическое предрасположение совершенно иное, чем у большинства современных поэтов. Однако я думаю, что сам характер моей работы над стихами не очень отличается от работы других поэтов. Мне кажется неоспоримым тот факт, что поэтическое предрасположение существует, как существуют различные типы поэтов и писателей. Мне скажут, что решающую роль тут играет эпоха, события, влияние среды. Я не отрицаю огромной роли этих факторов. Но не менее важна и психика поэтической индивидуальности, которая - да будет позволительно мне сказать - рождается уже с определенными интересами, определенным предрасположением, заложенным от природы.
Быть может, это звучит еретически в наше время, однако некое поэтическое предназначение все-таки существует.
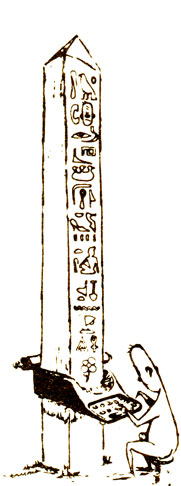
Фотокадр из фильма ЮНЕСКО 'Алло!'
Например, такой гениальный бразильский поэт, как Кастру Алвис, умерший двадцати четырех лет от роду, с начала своего беспримерно раннего поэтического творчества посвятил музу делу освобождения негров, делу революции, хотя эпоха, в которую он жил, эпоха Второй империи в Европе, скорее располагала к созданию произведений в духе Бодлера или поэтов-парнасцев.
Как-то выступая в Союзе писателей, я привел в качестве примера свое первое стихотворение, написанное в девятилетием возрасте; не надо быть особенно проницательным критиком, чтобы заметить в нем те элементы, которые стали характерными для всего моего последующего поэтического творчества, по крайней мере для первых стихотворных сборников.
Но дело, несомненно, не только в склонностях чисто литературных. Ведь стихи - не говоря уже о прозе - порождены жизнью, следовательно, они включают в себя не только чисто литературные, художественные детали, но также и приметы действительности, которые поэт маскирует как может, но которые тем не менее через поры и щели лезут наружу.
Конечно, иначе обстоит дело с прозой. Прозаическое произведение-это всегда итог жизненного опыта. Поэтому, когда жизненный опыт минимален, автор книги обращается к своей биографии, к сфере своих интимных чувств. Большинство книг начинающих авторов основано на личных переживаниях; первый роман всегда - в большей или меньшей степени - автобиографичен.
Разумеется, со временем опыт писателя совершенствуется, растет наблюдательность, способность накапливать факты, которая заключается на только в том, чтобы запечатлеть пережитое, но и в умении воспринимать все большее количество жизненных впечатлений.
Пруст полжизни накапливал те наблюдения, которые потом воспроизвел по памяти, укрывшись в полном одиночестве и занявшись ретроспективными поисками "утраченного времени". Несомненно, каждый выдающийся прозаик переживает примерно то же. Некоторые фиксируют свои наблюдения по горячим следам, иные полагаются на память. Но всегда, так или иначе, это борьба со все обезличивающим временем, стремление "спасти от забвения" те картины жизни, которые непрерывно поглощаются бурным и стремительным потоком времени.
Создание книги - это борьба, и поэтому творчество - процесс очень мучительный. У некоторых писателей муки творчества находят отражение в самой рукописи, в непрестанном исправлении ее, как, например, у Толстого или Жеромского. У других эти муки возникают задолго до того, как автор садится за стол, или же в ходе работы над словом. Примером такого рода может служить Флобер.
Причем каждый раз для писателя это также борьба с самим собой. Борьба со всяческими соблазнами, которые отвлекают его от намеченной цели, борьба с собственным малодушием, которое толкает на упрощение задачи, борьба за то, чтобы как можно яснее выразить заветную мысль, это, наконец, борьба за то, чтобы честно ответить на поставленный перед началом работы вопрос.
Особенно часто читатели задают писателю один вопрос. Он не всегда ставится так прямолинейно, как в некоторых модных сейчас анкетах. Однако независимо от формы, в какой он задан, суть его сводится к следующему: зачем ты пишешь?
Следует сказать, что писатель и сам часто задает себе этот вопрос и порой затрудняется на него ответить.
Ответить на этот вопрос нелегко. Даже если писатель пребывает в тиши своего кабинета, на своем рабочем месте, то есть в том естественном состоянии, каким является одиночество. Особенно трудно ответить на это искренне. И очень часто его ответ, который он порой скрывает от самого себя, звучит: не знаю.
Однако во всем этом есть нечто бесспорное. Каждая книга - результат борьбы со временем и с самим собой. Она - результат титанических усилий запечатлеть какую-то сторону действительности и одновременно - какую-то частицу своего собственного существования. Попытка писателя перебросить через бездну небытия частицу самого себя и своей эпохи. Жажда запечатлеть навеки быстротечное мгновение, сказав ему, как в "Фаусте" Гёте: "Verweile doch, du bist so schon!"* Почему же писатель стремится зафиксировать эти эфемерные вещи?
* (Остановись, мгновенье, ты прекрасно! (нем.). )
В такой же степени, как результат борьбы, книга - результат диалога. Книга - всегда беседа. Книга всегда пишется для читателя.
Есть авторы, которые опровергают это. Свое творчество они считают герметически замкнутым, чем-то таким, что нашептывается только самому себе, что заключено в их сердце и только им одним понятно. Другие утверждают, что книга - следствие подсознательной потребности человека творить, потребности зафиксировать внутренний монолог, который каждый из нас непрерывно произносит про себя.
Однако все это - отговорки, ошибочные суждения. Мне представляется, что ни один писатель не написал бы книги, если бы не думал об одном или многих читателях, для которых его творческие эмоции будут представлять интерес.
Книга позволяет ему обнажить перед людьми новый жизненный пласт, побудить их к действию, заставить задуматься или же доставить им чисто эстетическое наслаждение. Так или иначе, она должна оказать воздействие на читателей. По крайней мере каждый писатель так понимает свою роль.
Творчество - это как бы посягательство на власть. Читатель во время чтения находится во власти писателя. Книга - это оружие.
Одним словом, книга пишется всегда для кого-то. Подчас для одного, но чаще всего для многих настоящих или воображаемых читателей.
Книга и читатель - это пара, связанная между собой прочными, неразрывными узами, узами любви или ненависти. Невозможно представить себе книгу без читателя, точно так же как читателя - без книги.
За книгой стоит автор. Его творчество - это всегда послание к читателю.
Обычно мы пишем письма друзьям. Книга - это письмо автора к другу.
Подчас мы любим досаждать друзьям, бывают такие писатели, которые любят доставлять читателям неприятности. Но есть и такие, которые стремятся только услаждать читателя. И чаще всего впадают в крайность.
Но лучше всего те писатели, которые привлекают читателя на свою сторону, вовлекают его в свое единоборство с миром, которые исподволь посвящают читателя в свое понимание исторических или психологических процессов. Те писатели, которые подчиняют читателя своей власти.
Есть разные писатели и разные книги. Эта истина не нова. Но у книги, пока она не исчезнет с лица земли, как предрекал мой приятель, пока необходимость в ней не отомрет в "новом прекрасном мире", всегда одна задача и одно назначение. Обогащать читательское сознание, расширять его кругозор, приумножать его знания о жизни и об искусстве. И тем самым укреплять связь читателя с действительностью.
Поэтому мы должны радоваться, что живем в эпоху, когда книга воздействует на жизнь, когда литература расцветает, вызывая споры, и когда каждый год приносит нечто новое и удивительное в этой области. Мы благодарны писателям за то, что они пишут книги. Мы благодарны издателям и печатникам, выпускающим книги. Мы благодарны читателям, потому что это они создают вокруг книги атмосферу живой заинтересованности.
Современную нашу жизнь невозможно представить без книги, а что будет завтра - увидим!
1959
|
ПОИСК:
|
© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'